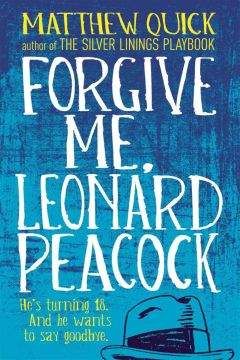Александр Проханов - Матрица войны
Это была удача. В унылом рассказе пленника, среди тусклых заученных слов, сверкнула информация, как кусочек драгоценной слюды в серой глыбе гранита. И эту слюдяную искру разглядел не только Белосельцев. Тхом Борет направил на пленного солнечные злые очки, посылая ему слепящий запрет.
Белосельцев испугался, что будет изобличен. Что его интерес к информации будет подмечен, а источник информации будет истреблен и подавлен. Спасая источник, обманывая Тхом Борета, оставляя без внимания сообщение о железной дороге, он продолжал расспрашивать:
– Чему его обучали в Таиланде?
Пленник отвечал, запинаясь, бегая глазами, опасаясь неверного, неугодного начальству ответа. Кампучийский крестьянин, чье сознание формировалось в трудах на красноватых пашнях, в деревенских праздниках, моленьях в буддийской пагоде, было смято и изуродовано ударами пропаганды Пол Пота и встречным воздействием агитаторов в исправительном лагере, этот забитый худой человек боялся подвоха, гнева сильных людей.
– Его учили минировать асфальтовое шоссе и железнодорожные рельсы. Женщин обучали минометной стрельбе. Детям, кто был моложе шестнадцати, показывали только автомат.
Мелькнула вторая искра – упоминание о железнодорожных рельсах. Полпотовцы знали о реконструкции железной дороги, о скором продвижении эшелонов, готовились к рельсовой войне. И опять Белосельцев пытался спутать следы, отвлечь Тхом Борета, затмить его солнечные всевидящие окуляры.
– В каких боях он участвовал?
Он участвовал в двух боях. Один раз они подкрались к вьетнамскому командному пункту. Установили в горах, в трех разных местах, минометы. В сумерках сделали три выстрела, с трех разных сторон, чтобы нельзя было определить направление. Он не знает, какой они причинили вред, но в темноте вьетнамцы их не преследовали. Второй раз они заложили на дороге мину, ждали, когда проедет машина. Проехал большой грузовик с военными, но мина почему-то не взорвалась. В других боях он не участвовал.
– Как попал в плен?
Сам пришел и сдался. Отдал вьетнамцам свой автомат.
Белосельцев смотрел на «красного кхмера». Это не был рафинированный интеллектуал, воспитанный кафедральной культурой Сорбонны, вскормленный яростным нигилизмом Сартра. Не был выносливый, фанатичный боец, входивший с боями в Пномпень, глашатай новой религии, сбрасывающий в желтый Меконг связанных богачей и министров. Тех фанатиков почти не осталось. Как крылатые термиты, на одну только ночь наполнили мир сверканием и шелестом крыльев, потеряли свои оперенья, превратились в унылых, ползающих по земле муравьев, отсеченных от неба.
Взятые в облавах крестьяне страшились вида оружия, кидали его при первой возможности. Группировка Пол Пота скрывалась в лесах, таяла, исчезала, была уже армией прошлого. Подобно другим разгромленным воинствам, выброшенным за родные пределы, была обречена на гибель. Еще стреляла, взрывала, но бессильна была победить. Ее коснулся неотвратимый упадок. Загадочный дух отлетал обратно на небо, оставив на земле отпечаток взорванных городов и дорог, костяную муку погребений. Эту истину нес на своем лице измученный пленник, не зная, куда поместить свою измученную душу и свое изнуренное тело.
– В чем заключается перевоспитание? – спросил Белосельцев, замечая, что Сом Кыт, стараясь оставаться бесстрастным, страдает и мучается. Его мучает не чувство мести, не желание воздать за убийство детей, а сострадание к растерянному единоверцу, попавшему, как и сам он, Сом Кыт, под грохочущие зубья истории. Белосельцев вдруг вспомнил голубую картину Дега, невесомых танцовщиц в маленькой книжке Сом Кыта. – Чем он занимается в лагере?
– Им рассказывают, какая хорошая жизнь будет в новой, возрожденной Кампучии. И водят работать на восстановление железной дороги. Там очень много работы. Они должны успеть ее кончить до освобождения из лагеря.
Это была информация. Срок восстановления железной дороги был связан со сроком возможной военной операции в районе границы. С началом крупномасштабной вьетнамо-таиландской войны. Уточнить этот срок значило уточнить бесценную информацию. Значило разоблачить себя перед бдительными очами Тхом Борета. Значило погубить источник – обречь многострадального пленника на продолжение страданий.
Белосельцев колебался. В нем шло стремительное, почти автоматическое, из множества бессознательных побуждений, вызревание решения, которое в секунду могло сорвать всю тщательную разведоперацию или, напротив, увенчать ее успехом.
– Через несколько дней – Новый год, – сказал Белосельцев, улыбаясь, выражая всем своим видом сочувствие пленнику. – Едва ли к этому празднику он окажется в кругу семьи. Когда же он сможет войти в свой дом и обняться со своими близкими?
Сом Кыт молчал, не переводил вопрос. Молчал Тхом Борет, сверкал очками. Пленник, не понимая, крутил головой. Сом Кыт медленно о чем-то его спросил. Лицо крестьянина озарилось, сухая коричневая кожа на лбу разгладилась, и он радостно, наивно улыбнулся, открывая желтые зубы. Что-то торопливо сказал.
– Он сказал, что их отпустят через месяц. Как только они достроят дорогу.
Тхом Борет хлопнул по столу беспалой ладонью, что-то кратко и грозно сказал. Пленник сжался, стиснул плечи, словно ожидал больного удара. Стал похож на забитое животное, провинившееся, не знающее, в чем его вина.
– Разговор окончен, – сказал Тхом Борет. – Сейчас им пора на работу.
Он кликнул солдата, и пленника увели. Они вышли из помещения на солнце.
Гремело металлическое било. По дорожкам торопились пленные, строились перед воротами в колонну, окруженную конвоирами. Звучали понукания, крики. Пленные ровняли ряды, к ним пристраивались тачки, груженные кирками и лопатами. Белосельцев всматривался в колонну, желая углядеть в ней недавнего собеседника.
– А где же Тын Чантхи? – спросил Белосельцев у Тхом Борета. – Почему я его не вижу?
– Ему стало плохо. Его отправили в госпиталь. Он недавно перенес малярию и не может много работать.
Они выехали сквозь ворота, обитые железными листами. Вслед им истошно звенело било, выходила окруженная автоматчиками колонна. Белосельцев испытывал двойственное, до конца не осмысленное чувство. Радость по поводу драгоценной, ненароком добытой информации. И вину перед несчастным крестьянином, на которого навлек беду. Эта двойственность сопутствовала ему постоянно, была выражением двоичности мироздания, присутствия в нем Света и Тьмы, среди которых протекала его, Белосельцева, жизнь.
Они расстались с Тхом Боретом, отправились к художнику Нанг Равуту. Один из немногих интеллигентов, переживших избиения, он слыл местной знаменитостью, сотрудничал с новой властью. Двери его ателье были раскрыты на улицу, где в жаре дребезжали велосипедисты, бегали и голосили дети, и всяк проходящий мог заглянуть в его мастерскую.
Художник, маленький, мускулистый, голый по пояс, с ершистой седой головой, держал пятнистую палитру и кисти. Поклонился, когда они вошли. Сом Кыт представил Белосельцева, объяснил цель визита. Белосельцев тем временем разглядывал огромное, уходящее к потолку панно, над которым трудился художник.
На обширном холсте грубо, бегло и хлестко была намалевана карикатура. Группа разномастных кривляющихся кукол. Над каждой было выведено имя. Толстолицый, смазливо-отталкивающий Сианук. Маленький плотоядный Лон Нол. Ушастый, клыкастый, похожий на кабана Пол Пот. В цилиндре, в штиблетах, с козлиной бородой Дядя Сэм. На теле каждого был нарисован круг с темной сердцевиной наподобие мишени.
– Этот стенд заказал мне муниципалитет, – сообщил художник, маленький, живой, остроглазый на фоне плоских черно-белых карикатур. – Похожий стенд я сделал для Сиемреапа, там не осталось своих художников. Скоро, вы знаете, мы празднуем Новый год. Эти стенды будут установлены на месте народных гуляний. Люди будут целиться в эти мишени стрелами, дротиками. Это их развлечет. – Он замолчал, изучая гостя, желая убедиться, что этот нехитрый, на потребу минуте, труд правильно истолкован. – Мне приходится рисовать агитационные плакаты. Может, видели на рынке плакат, призывающий соблюдать гигиену, не пить сырую воду? Или при въезде в город, у моста, призыв не сорить, убирать дворы и подъезды? Сейчас это очень насущно. Люди, поселившиеся в городах, не знают грамоты, не умеют читать. Многое приходится им объяснять изображением, рисунком.
Его поденная, яростно-небрежная работа была сравнима с агитками и плакатами революционной России, которые являлись мгновенными отблесками схватки, запечатлевали на своих ярких, похожих на кляксы листах резкое членение мира. Здесь, на этом холсте, присутствовала та же эстетика, металась торопливая кисть вовлеченного в борьбу художника, занятого черновой, неблагодарной работой на рынках, в казармах, в больницах.
– Помимо этих, у меня есть другие работы. Я их мало кому показываю. Они – о недавнем прошлом. Это прошлое исчезло из внешней жизни, но здесь, – он дотронулся до груди, – здесь оно осталось. Эти рисунки я посвятил тем, кого с нами нет, кто не может говорить. Я говорю за них.