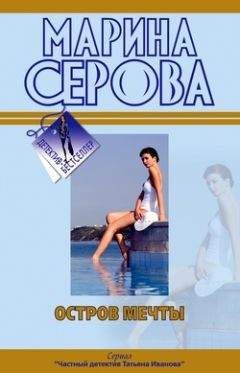Маргарет Этвуд - Слепой убийца
Хотя сама мисс Вивисекция была грузна и неизящна, у неё имелись весьма высокие критерии изысканности и целый список вещей, на которые нам следовало походить: цветущие деревья, бабочки, нежный ветерок. Что угодно, только не ковыряющие в носу маленькие девочки с грязными коленками: в вопросах личной гигиены она была чрезвычайно брезглива.
— Не жуй свой карандаш, милочка, — говорила она Лоре. — Ты же не мышка. Посмотри, у тебя весь рот зеленый. Это вредно для зубов.
Я читала «Эванджелину»[41] Генри Уодсуорта Лонгфелло, читала «Сонеты с португальского» Элизабет Барретт Браунинг[42]. «Как я люблю тебя? Не счесть мне этих „как“. «Прекрасно!» — вздыхала мисс Вивисекция. Она питала слабость к Элизабет Барретт Браунинг — во всяком случае, насколько ей позволяла унылая натура; а ещё к Эмили Полин Джонсон[43], принцессе могавков:
Ах, река живей теперь,
На стремнинах мчит скорей.
Кружит, кружит
Пеной кружев.
Речка резвая все уже?[44]
— Очень волнующе, милочка, — говорила мисс Вивисекция. А ещё я читала лорда Альфреда Теннисона, человека, чье величие, по мнению мисс Вивисекции, уступало разве что Богу.
Где были цветы, теперь черный мох,
Клумбы покрыл ковром.
Обломки шпалер, виноград усох,
Гол и бесцветен дом…
Она лишь сказала: «Жизнь пустая.
Увы, не придет он».
Она сказала: «Я так устала.
Лучше уж вечный сон».[45]
— А почему она этого хочет? — спросила Лора, обычно не проявлявшая интереса к моей декламации.
— Это любовь, милочка, — ответила мисс Вивисекция. — Безграничная любовь. Оставшаяся без взаимности.
— Почему?
Мисс Вивисекция вздохнула.
— Это стихотворение, милочка, — сказала она. — Его написал лорд Теннисон; думаю, он знал. В стихах не говорится, почему. «В прекрасном — правда, в правде — красота» — всё, что ты знаешь и что знать должна»[46].
Лора глянула презрительно и вернулась к раскрашиванию. Я перевернула страницу: я успела проглядеть все стихотворение и знала, что в нём больше ничего не случится.
Бей, бей, бей
В берега, многошумный прибой!
Я хочу говорить о печали своей,
Непокойное море, с тобой[47].
— Прелестно, милочка, — сказала мисс Вивисекция. Она восторгалась безграничной любовью, но также и безнадежной печалью.
В библиотеке была ещё бабушкина тоненькая книжка в кожаном переплете табачного цвета: Эдвард Фицджеральд. «Рубайят Омара Хайяма»[48]. (Эдвард Фицджеральд её не писал, и однако же значился автором. Как же так? Я не пыталась понять.) Мисс Вивисекция иногда мне её читала — показывала, как должны звучать стихи:
О, если б, захватив с собой стихов диван
Да в кувшине вина и сунув хлеб в карман,
Мне провести с тобой денек среди развалин,
— Мне позавидовать бы мог любой султан![49]
Она выдыхала первое «О!» — будто её стукнули в грудь, «тобой» тоже выдыхала. Что волноваться из-за обычного пикника, думала я. Интересно, с чем у них бутерброды.
— Здесь речь идет не просто о вине, милочка, — сказала мисс Вивисекция. — Это таинство причастия.
Когда б скрижаль судьбы мне вдруг подвластна стала,
Я все бы стёр с неё и все писал сначала.
Из мира я печаль изгнал бы навсегда,
Чтоб радость головой до неба доставала[50].
О, не растите дерева печали…
Ищите мудрость в солнечном начале:
Ласкайте милых и вино любите!
Ведь не навек нас с жизнью обвенчали[51].
— Как это верно, — вздыхала мисс Вивисекция. Она обо всём вздыхала. Она хорошо вписалась в Авалон с его старомодной викторианской роскошью, атмосферой эстетического упадка, утраченного изящества, изнурительной печали. Её манеры и даже блеклый кашемир подходили к нашим обоям.
Лора читала мало. Зато срисовывала картинки или раскрашивала цветными карандашами черно-белые рисунки в толстых умных книгах о путешествиях или по истории. (Мисс Вивисекция ей разрешала, полагая, что все равно никто не заметит.) У Лоры были странные, но очень четкие представления о цветах: дерево могло быть синим или красным, а небо — розовым или зеленым. Если на картинке был человек, который ей не нравился, она закрашивала ему лицо фиолетовым или темно-серым, стирая черты.
Ей нравилось срисовывать пирамиды из книги о Египте и раскрашивать египетских богов. А ещё ассирийских крылатых львов с человеческими или орлиными головами. Эти нашлись в книге сэра Генри Лейарда[52] — он раскопал их среди руин Ниневии и доставил в Англию; говорили, что это изображения ангелов, описанных в Книге пророка Иезекииля. Мисс Вивисекции эти рисунки не очень нравились: статуи казались языческими и к тому же кровожадными, но Лору это не отпугивало. Слыша критику, она только ниже склонялась над рисунком и красила так, будто от этого зависела её жизнь.
— Выпрями спину, милочка, — говорила мисс Вивисекция. — Представь, что ты дерево и тянешься к солнцу. — Но Лору такие фантазии не интересовали.
— Не хочу быть деревом, — отвечала она.
— Лучше деревом, чем горбуньей, милочка, — вздыхала мисс Вивисекция, — а ты непременно станешь горбуньей, если не будешь следить за осанкой.
По большей части мисс Вивисекция сидела у окна, читая романы из нашей библиотеки. Еще ей нравилось листать тисненые кожаные альбомы бабушки Аделии, куда та вклеивала разукрашенные приглашения, напечатанные в типографии меню и газетные вырезки о благотворительных чаепитиях и познавательных лекциях со слайдами, что переносили вас в Париж, Грецию или даже в Индию, к последователям Сведенборга[53], фабианцам[54], вегетарианцам — словом, как могли способствовали вашему развитию; а порою нечто экстравагантное, вроде рассказа миссионера, побывавшего в Африке, в Сахаре или в Новой Гвинее, о колдовстве местных жителей, о женских резных деревянных масках, о черепах предков, покрытых красной краской и убранных раковинами каури. Мисс Вивисекция разглядывала все эти пожелтевшие свидетельства роскошной, изысканной и неумолимо сгинувшей жизни и словно что-то припоминала, нежно улыбаясь чужой радости.
У неё был пакетик с золотыми и серебряными звездочками — она приклеивала их к нашим поделкам. Иногда она уводила нас собирать цветы, мы сушили их между промокашками, положив сверху толстую книгу. Мы полюбили мисс Вивисекцию, хотя не плакали, когда пришло время расставаться. А вот она плакала — навзрыд, неизящно, как вообще все, что делала.