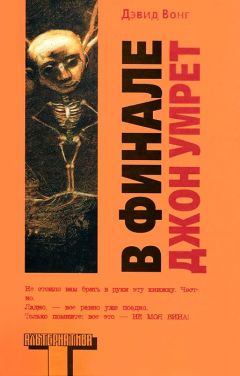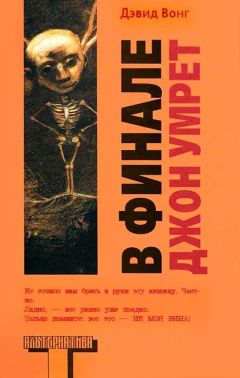Александр Любинский - Виноградники ночи
Я ждал ее полчаса на автобусной остановке. Наконец, она приехала, молчаливая и усталая. Я поцеловал ее в мягкие безответные губы, вручил три белых хризантемы. «Какие красивые!» — сказала она и взяла меня под руку. Мы молча прошли по переулку мимо садиков с низкорослыми лимонными и гранатовыми деревьями к моему дому. «Очень мило! — сказала она. — А кто еще здесь живет?» «Рав Мазиа. На первом этаже. Его очень уважают. Еще в юности он выиграл конкурс на лучшее знание Торы». Про его слепоту я не стал ей сообщать. «Какая прелесть!» — сказала она, и по пыльной лестнице мы поднялись на второй этаж, вошли в квартиру. При виде моего логова в ней пробудилась жизнь: она охнула, засмеялась. «Боже мой, вы, мужчины, и впрямь не можете жить одни!» «И вы тоже, — сказал я, снимая книги со стула и тем самым приглашая ее сесть. — Видишь, я ждал тебя. Оцени закуску!» «О, да! — сказала она. — Это что, брынза? Давай приступим. Я ужасно голодна».
И мы выпили красного вина, съели греческий салат, который я приготовил (только его я и умею делать), и маленькие плотные пальчики из свернутых виноградных листьев, начиненные рисом. И снова выпили. Темнело, но я не стал зажигать свет.
— Как хорошо! — сказала она, — как тихо!
— Что-нибудь случилось?
— Нн-нет… Вернее, да… Пару часов назад мне сделали предложение.
— Так… И ты приняла его?
Потянулась за сигаретами, щелкнула зажигалкой, с удовольствием затянулась.
— Это серьезно…
— Я молчал.
— Это очень серьезно!
— Не сомневаюсь.
Она сидела вполоборота ко мне, глядя в окно, и я видел ее профиль, точеный профиль камеи.
— Кто он?
— Мой друг. Мы с ним уже очень давно встречаемся. Надеюсь, ты не станешь ревновать?
Я плеснул в фужер все, что еще осталось в бутылке. Залпом выпил.
— Скажи, зачем я тебе понадобился?… Мне под пятьдесят. У меня ничего нет. Что тебе нужно от меня? Ты хочешь, чтобы мне было больно?
— Нет, — проговорила медленно. — Не хочу… Как тебе объяснить… Он очень славный. Компьютерщик… Работает на военном предприятии. Все тип-топ… И прав — пора, наконец, определить наши отношения. Да и я уже — не девочка!
Хохотнула своим низким хриплым смехом, затянулась сигаретой. Сверкнул на узком запястье серебряный браслет.
— Отгулялась… Муж, семья, ребенок… Все как у всех.
— А я?
— Ты? Ты — настоящий. В тебе есть сила таланта. Может быть, и я его не лишена… Ведь на самом-то деле мы оба знаем, что люди живут иллюзорной жизнью. И надо, если по-честному, жить так, как ты: чтобы ни кола, ни двора… Лишь комната, заваленная книгами. А в общем-то, и они ни к чему.
Я встал, зажег свет. Белые стены. Стол. Стулья. Шкаф. Кровать.
— У меня есть один знакомый…
— Да?
— Целый день он сидит на стуле на одном из перекрестков Эмек Рефаим. Читает Тору и заговаривает с прохожими на своем библейском языке.
— Где это?
— Наискосок от кладбища тамплиеров.
— Примерно представляю… И что же?
— Вот уже месяц его нет. Куда-то исчез.
Подошла, поцеловала в лоб.
— Мне нужно идти.
— Ты не останешься?..
— Нет. Так будет еще хуже.
Взяла сумочку, перекинула через плечо. Я вышел вслед за ней на лестницу — и не стал гасить свет. Это поможет, когда вернусь.
Мы виделись с ним всего несколько раз — последняя наша встреча случилась на каком-то литературном семинаре за два… нет — за три года до его смерти… Семинар проходил в кибуце под Тель-Авивом, было серо, холодно, мокро, как обычно бывает здесь зимой. Мы столкнулись с ним у двери. Остановились. Постояли, глядя на черные деревья во дворе. И он сказал тихо и важно, что сообщало каждому его слову весомый смысл: «Там, где двое сойдутся во имя мое, там и я буду среди них». Это было неожиданно. Я промолчал. «Я читаю ваши статьи», — продолжил он. Но вместо того, чтобы вежливо поблагодарить, я обвинил его в снобизме! Он склонил голову, подумал; не повышая голоса, ответил, что прекрасно видит разницу между своими текстами и книгами, стоящими на его полке.
Теперь, перечитывая его эссе, я понимаю, что они просто-напросто были неуместны в той газетке, в которой он работал. Впрочем, и я был в той же ситуации… Мы выламывались, наш высокий стиль, наш доморощенный александризм, наши попытки создать — в который раз! — новую литературу на этом клочке земли — вступали в вопиющее противоречие с сиюминутностью газетного листа.
Мы полагали, — и я уверен до сих пор, — что клочок этот уникален; что недаром именно здесь зародились великие культуры и религии, распространившиеся затем повсюду, поскольку земля эта лежит в стредостении трех огромных материков, соединяет их своим крохотным израненным телом… И потому не принадлежит никому — и страдает за весь мир.
Там, где двое сойдутся во имя мое… Но кто же эти двое? К какому роду-племени принадлежат? Похоже, к тому странному роду, который, пребывая в средостении народов, не принадлежит ни к одному из них, соединяя всех. Странен странник, ибо всегда — на грани: любой границы земной, любой традиции и культуры. И потому повсюду и всегда он благовествует об иных землях, других странах. Странен странник, ибо повсюду он — чужой.
Никогда не сидели мы за щербатым столом траттории, ни в Яффо, ни в каком-нибудь маленьком белом городке по другую сторону моря. Но так ему этого хотелось, что в своей последней книге в своем воображении он усадил нас за этот стол. И мы разговаривали так, как никогда не случилось в жизни.
Средиземноморье, срединная земля. Белые города.
Теперь его нет. Ну, так что ж! Я продолжаю наш диалог со страниц своей книги, как он ведет его — со страниц своей. И я продолжаю — наше — общее дело. Зря он написал о своем предательстве, в очередной раз спрятавшись под выдуманной маской. Никого он не предал. Просто с каждым годом мое существованье становится все просторней и тише… Словно зарастает кладбищенским чертополохом. И в эту пустоту иногда забредают живые люди. Вот и Влада пришла — и ушла. Может быть лишь для того, чтобы наши образы отразились друг в друге: мои — в ее книге, ее — в моей. Так из сплетений судеб, отраженных в слове, складывается настоящая, ненадуманная литература, корнями жестоковыйной смоковницы вцепившаяся в эту выжженную, сухую, израненную землю.
В маленькой общине, названной с легкой руки Генриха Российским палестинским обществом, появился новый человек. Якову Генрих о его приезде заранее не сообщил, и потому Яков был весьма удивлен, когда однажды прохладным и солнечным днем из машины, въехавшей во двор, выскочил молодой человек — невысокий и плотный, с маленькой аккуратной бородкой. Генриха, вышедшего ему навстречу, он крепко обнял и попытался чмокнуть в губы, но Генрих вовремя увернулся. Насколько Якову было известно, с мужчинами Генрих целоваться не любил. Архаровцы, Лена и Яков, вышедший из своего закутка, удостоились крепкого рукопожатия. А на Лене гость задержал взгляд своих красивых синих глаз.
Генрих провел его в кабинет. Минут через пять он крикнул Лену, которая и не замедлила явиться с подносом, на котором стояли два чая в тяжелых серебряных подстаканниках и бутерброды с ветчиной. Свои волосы, обычно свободно падавшие на плечи, Лена собрала в пучок. А поднос она несла так, словно подавала блюдо для евхаристии. «Кто это?» — спросил ее Яков, когда она вышла из комнаты. «Кто надо», — ответила она, и прошествовала мимо Якова, даже не виляя задом.
Все прояснилось через полчаса: Генрих открыл дверь и позвал Якова.
— Знакомься, — сказал он, когда Яков вошел в комнату, — отец Владимир. Прямехонько из Москвы.
— Как не понять. Прямехонько с Лубянки.
Отец Владимир хохотнул, хлопнул Якова по плечу.
— Он у нас шутник, — сухо проговорил Генрих.
— Да-да. Наслышан.
— Садись. Есть разговор.
И Яков сел на стул напротив Генриха, а отец Владимир разместился на топчане со стаканом чая в руках.
— Видишь ли… Пора начинать действовать.
— Именно! Надо вести себя подобающим образом! — воскликнул отец Владимир и, причмокнув, отпил из стакана.
— Как это? — проговорил Яков, стараясь не глядеть в сторону гостя.
— А так. Мы представляем великую державу.
— Разумеется…
— Давайте ближе к делу! — Генрих нервно дернулся на стуле. — В конце месяца мы начинаем регулярную службу в Свято-Троицком храме. Как тебе известно, он был закрыт после убийства его настоятеля. У эмигрантов нет ни сил, ни средств, чтобы взять его под свой контроль. Это должны сделать мы.
— На каком основании?
— Об этом и речь.
— Год назад Иерусалим посетил святейший патриарх, — проговорил нараспев отец Владимир — и умолк.
— Да. Был составлен документ о передаче храма в ведение Российской православной церкви. Вот он, — и Генрих протянул Якову лист бумаги с напечатанными вкривь и вкось буквами. — Твоя задача — составить грамотное и обоснованное представление городским властям, подтверждающее наши права, и указывающее на необходимость возобновления службы. Если потребуется, присовокупи документы, которые я тебе передал. Храм должен быть открыт не позже, чем через две недели.