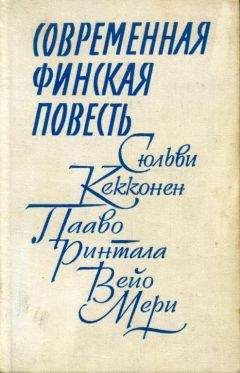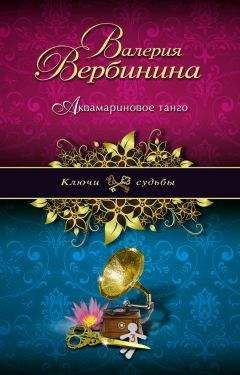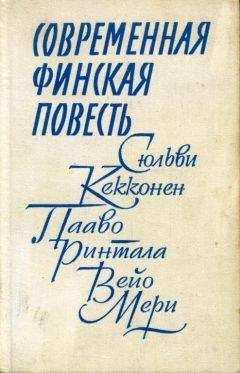Сюльви Кекконен - Современная финская повесть
Политики слишком часто объясняют отсутствие односложных решений беспомощностью науки. Они требуют простых решений. Но мыслящий человек не способен их давать. Интеллигенция не может упрощать явления, потому что видит их глубже. Поэтому интеллигенция и предана забвению в демократических странах, в странах западной демократии, во всяком случае. Про другие не знаю.
Тот, кто умеет предложить однозначное решение, стоит у власти. И так повсюду — в политике, в школьном управлении, в религиозной жизни, в литературе. Поэтому и получается, что в руководители выходит тот,, кто способен твердо сказать: дело обстоит только так.
Слуги в седлах.
Он встал, прошел на кухню, открыл кран, наполнил стакан холодной водой и принял две таблетки.
Дыхание перехватывало, сердце беспокойно колотилось. Ему все равно, кто сидит в седле. Оно считается только с самим собой.
Бог с ним, какое мне дело до всего этого. Меня все равно надолго не хватит. Пойду спать.
Он пошел в спальню, лег на кровать и вдруг вскочил.
Одна несчастная небольшая мышца. Неужели я ей поддамся? Не выйдет!
4
Кто день за днем не ожидал в бездеятельности, когда правление пригласит его на дружеское собеседование, тот не знает, что такое нарастающий страх.
Так он думал, сидя с английской газетой на коленях в большой и пустой комнате клуба.
Здесь еще чувствовался запах утра, хотя вокруг уже был вечер. В коридорах шла уборка. Из боковых комнат доносился однообразный пьяный мужской гомон.
Он выпил чашку кофе, съел булочку и продолжал предаваться скуке. Хотелось повидать Хурскайнена или директора. Хотелось повидаться с людьми, которые бы выслушали его и которых он сам мог бы выслушать. Выслушать и освободиться от этой тяжести вынужденного отпуска.
Но кого он мог повидать и кому высказаться?
Он перебрал в памяти участников сорокалетнего юбилея. Нет. А другие знакомые? Нет ли кого-нибудь среди них? Но ведь и сам он, кого бы ни слушал, слушал всегда вполуха, продолжая размышлять о своем.
«Где-то в самых глубинах души, которые нельзя окончательно задушить ничем вульгарным, никакой ложью или иронией, современные мыслящие люди научились распознавать грех; и это знание, которого они не могут утратить и от которого не могут освободиться...» — он это только что где-то прочел. И запомнил. Кажется, это был Оппенгеймер.
Если Оппенгеймер, то там должно быть: «физики».
Он нечаянно заменил физиков всеми мыслящими людьми. Похоже на Оппенгеймера.
Похоже и на любого человека, находящегося в принудительном отпуске. Это условие продолжения биологической жизни.
— Ну, Хейкки, что ты там бубнишь в газету? Здравствуй.
Он поднял голову и встал.
— Здравствуй. Искал тут одну цитату, не помню, здесь я это прочитал или в другом месте. Что нового?
— Спасибо, все по-прежнему. А у тебя?
— Да вот, решил сюда заглянуть, давно не был.
— Тебя и правда не часто здесь встретишь.
— Дела.
— Так, так. А Пентти?
— А что с ним сделается? Хлопочет на своем предприятии.
— Ты кого-нибудь ждешь, или можно к тебе присесть?
— Никого я не жду.
Олли Паккула сел рядом. Олли — полковник. Он когда-то хорошо знал его отца.
— Какие новости? Каковы нынешние новобранцы?
— Должен признаться, не хуже, а может, и лучше, чем в те времена, когда я сам пошел на службу.
— Ого.
— Правда. В армии нет молодежных проблем, как у всех других. Хорошие ребята.
— Когда ты в последний раз был в родных краях?
— Я ведь там два года назад полком командовал, перед тем как сюда переехать.
— А мать жива?
— Жива и здорова. Бодрая старушка. А ты когда там был?
— Да уж давненько. Прижились мы здесь, на юге... И чем ты это объясняешь?
— Извини, что именно?
— Что армия сохранила... Я не о старом времени говорю, а о том, что у вас хорошо идут дела. Все другие жалуются на множество трудностей.
Олли усмехнулся.
— Не знаю. Мы получаем так мало ассигнований, что у нас нет никаких забот. Стараемся использовать каждую марку как можно разумнее, и на это уходит все время. Работаем без передышки... Не знаю, отчего это происходит.
— А вспомни церковь, например. Она только и делает, что жалуется на трудности.
— Мне кажется, наша церковь после войны стала такой же, как все другие общественные организации. Собирает деньги и ищет популярности. О душе совсем забыла. Трудности от этого только растут. Мы жили гораздо скромнее и сохранили душевное усердие.
— Чего-то нам не хватает, какой-то цельности...
— Девушка, принесите мне тоже чашку кофе и стакан воды с кусочком лимона! — крикнул Олли. — Прости, что ты сказал?
— Я говорю, что впервые в новой истории мыслящих людей всего мира объединил страх. Он объединил японцев, русских, американцев и финнов, потому что он всем нам ведом. Страх и неуверенность — другой общности у нас нет.
— Русские ничего не боятся.
— Я не в конкретном смысле. Мне кажется, в мировоззрении мыслящего человека, будь он русский или цейлонец, страх занимает одинаковое место.
— Я не хочу никакой эссенции, я просил чистой воды и кусок натурального лимона, никакой лимонной кислоты; разве вы не слышали, что я сказал... Значит, страх? Возможно. Я об этом не думал.
— Да, так оно и есть.
— Да, да. Может, и так. Налить тебе кофе? Мне тут надо было встретиться с одним человеком, но что-то его нет.
Он понял, что Олли его не слушает.
— Мне тоже, — сказал он.
— А, ты кого-то ждешь?
— Именно.
Олли посмотрел на часы.
— Пора идти. Он не пришел, а мне некогда прохлаждаться. Ну, до свидания. Кланяйся тете, Пентти, Кайсе и Эсе.
— Спасибо.
— Так будь здоров.
— Будь здоров.
У него-то время есть. И никто его не ждет. А ту, которую ждет, он ждет со страхом — вдруг сейчас явится? Когда-нибудь, конечно, явится. А пока, в такие вот тихие минуты, когда клуб еще не наполнился, можно подождать и чего-то другого, про что знаешь: хоть оно не придет ни сегодня, ни завтра, но все-таки может поспеть раньше той, другой, которая обязательно явится в конце концов, пока развитие не пошло вспять.
Изжога.
Он попросил воды и проглотил таблетку.
Когда клуб начал заполняться и шум усилился, он ушел. По улицам и стенам домов растекалась воскресная скука. Город бездействовал. Почему он не уехал на дачу?
Из-за юбилея. Нашел причину. А может, все-таки туда пойти?
Он посмотрел на часы. Еще не поздно. Пойду, и все.
5
Он взял такси и поехал в старый ресторан. Когда он спросил у швейцара, здесь ли празднуют юбиляры, швейцар ему улыбнулся и проводил в дальний зал. Там пели. Старые, скрипучие голоса. Он знаком позволил швейцару уйти и остановился за дверью. Когда он ее приоткрыл, песня зазвучала громче:
Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, vivat omnes...[14]
Он прижал лицо к дверной щелке. Длинный стол, белая скатерть, на столе цветы, за столом мужчины с разинутыми ртами, в белых шапочках, на лицах благоговение и торжественность. У него мелькнула мысль о том, что он-то без шапочки, но это сразу забылось. Он увидел маленький город, отель и сад за окном. В белой ночи повсюду, куда только хватал взгляд, стояли деревянные дома, светлые и низкие. Справа от него сидел Матти и канючил:
— Пойдем в другое место. Еще не скоро начнется. Здесь мне больше не дают пунша, сволочи, хотя я студент. Пьян, мол, а я и не пьян..
Он раздраженно взглянул на Матти. Сам он только что пришел. Мама стояла в воротах и смотрела, как он уходил, потому что он шел в центр города. Накануне вечером мама тоже смотрела, как они пели на ратушной лестнице. В галдящей толпе он заметил ее — маленькую, темноволосую, с блестящими глазами женщину. И дядю Лэви, и Таави из Расиперя, старого слесаря, у которого он числился учеником два последних лета. На самом деле он просто у него работал. Это было неприятно. Маму очень мучило, что ее сыну, лицеисту, приходится работать. Ведь другие лицеисты не работали. По крайней мере последнее лето. Другие гуляли с тросточками по улицам и красиво говорили о красивых вещах. Молодые господа. А ее сын работал, да еще слесарем, хотя ему и подобало место получше. И на сплаве мальчик трудился, а все-таки сын бургомистра приходил к ним, к ее Хейкки, в их маленькую кухоньку и комнатку.
Мама знала, что мальчики задумали убежать на северные заводы сплавлять лес. Поэтому-то сын бургомистра и говорил с Хейкки так долго и горячо. Мать смутно догадывалась, что мысли мальчиков стремились еще дальше этих заводов, и она боялась за них.
Но когда потом сын бургомистра и некоторые другие исчезли и про них стали говорить, что они ушли на северные заводы, мама успокоилась: Хейкки остался. Хейкки пошел на работу в акционерное общество древесных материалов и собирался осенью поступить в политехнический.