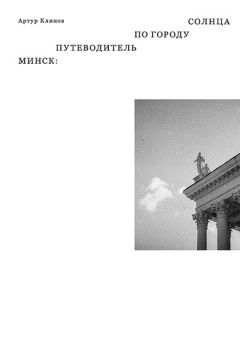Борис Ширяев - Ди - Пи в Италии
— Да. Иной стала жизнь, и люди иные.
— Вот и не так. Жизнь иная, а люди те же. Только внешность изменилась.
— В лапотках мужичок не ходит?
— В лапотках-то ходит, чаще даже в дырявых опорках. Только и материт же он теперь эти самые лапотки.
— Значит, революция все-же пользу крестьянству принесла?
— Наоборот, затормозила его развитие. Процесс-то его роста испокон веков шел. В 1861 году быстрей двинулся, а при Столыпине валом вперед попер. Советчина его смяла, снова за 61-ый год пытается задвинуть, но и ей это не под силу. Посмотрите, вот вырвался из нее Андрей Иванович и даже в наших дипиевских, почти концлагерных условиях, смог развернуться. Он внутри себя, под давлением, негативно, «от обратного», рос. Не в том дело, что колхозные девки теперь фокстрот танцуют и губы себе помадой мажут, а в том, что вот мои студентки на лето в колхоз уходили.
— В народ, значит? Это и раньше бывало.
— Нет, не бывало. То задуренные интеллигенты в жертвенность позировали и шутами гороховыми по деревням таскались. Теперь за иным туда идут.
— За чем же?
— Деньгу себе кое-какую на зиму заработать на поле. Чтобы доучиться. В пузо себе что-нибудь сверх болтушки в столовой всунуть. Шли и прежде. Верно, но «с направлением»… в статистики или еще во что, на легкую работу для болтовни, а эти картошку идут копать, да ловчатся, как бы себе на пай лишнее ведро перекинуть. Эти за жизнь свою борются… Зубами ее себе выгрызают. Вот это ведро и роднит их, интеллигентов, с колхозом.
— Послушать вас, так и я теперь не смог бы полком командовать, — отвечает каким-то своим мыслям полковник, — а ведь я солдата знал… знал…
— Вот в том-то и твоя драма, — думаю я, — что знал, верно, знал, а теперь…
***Первобытные люди собирались вокруг костра, и именно в этом кружке вокруг него стадо превращалось в общину.
Стадо русских беженцев, хлынувших в Италию, группировалось в ней вокруг двух центров: церкви и газеты. В этих кружках первобытные беженцы превращались в российских политических эмигрантов. В лагерях ИРО, где все на виду, этот процесс был особенно заметен.
Русской церкви не было ни в Пагани, ни в соседних лагерях: Вилла Альба, Марино, Сан Антонио. В православном храме Пагани служил сербский священник и пел русский хор. Его регентом был «старый» эмигрант Михаил Михайлович, когда-то учившийся в семинарии, пели в нем, главным образом, «новые» казаки, еще помнившие слышанную в церкви службу, а его солистами состояли Татьяна Михайловна и доктор, не только «новые», но и молодые, услыхавшие церковное пение только здесь. Услышали и сами запели, да как еще пели…
Но сербский священник ненавидел почему-то русских. Почему? Его дело. В одной из проповедей он оскорбил всю российскую нацию, после чего хор отказался петь, а русские перестали ходить в православную церковь.
В качестве объединяющего очага осталась только газета. Но и этот очаг грел слабо. Ировская библиотека получала только «Русскую Мысль», которая тотчас же скрывалась в кармане заведующего этим учреждением, рамолика, экс-кавалергарда, экс-дипломата и, кажется, вообще экс-человека, пытавшегося репатриироваться, но, увы, не принятого даже любвеобильной родиной. Он читал газету не спеша, потом передавал сводим друзьям, и на стол читальни номер попадал так дней через десять.
Я к тому времени получал уже большинство русских газет всего Зарубежья, и костер затеплился около моей лазаретной койки. Почта приходила в одиннадцать, и тотчас же после обеда, мы с Андреем Ивановичем заваливались газетными листами.
Читал он внимательно, сплошь, от заголовка до объявлений, и из всего делал выводы.
— В Париже все русских нянек ищут. Вот бы нашим пожилым женщинам туда, а виз не дают… В Америке подходящий участок можно сходно купить. И в рассрочку. Опять же — виза. А в прежнее время, так сказать, при царизме, тоже визы требовались?
— Ну, Андрей Иванович, тогда свободы не было. Плати за паспорт двенадцать целковых и катайся по всему свету!
— Та-а-ак… Вот господин Февр пишет, — переходит на другую тему Андрей Иванович, что побывал он в России при немцах и удивляется, что там крестьянство царя добрым словом поминает. Чего-ж в этом удивительного? Только говорит, чтобы этот царь крупчатку по рупь двадцать дал. Не с того краю господин Февр подходит.
— Почему не с того?
Ошибочка. Крупчатку-то по рупь двадцать не царь крестьянству поставит, а, наоборот, крестьянин царю или там кому другому… А от него этот рублик в настоящем виде потребует. Чтобы ясная видимость была. С патретиком. Вроде как-бы по соседски. Я тебе известен, а ты мне знаком.
— Значит, патретик-то этот нужен крестьянину?
— А как иначе? Не одному крестьянству, а всем он нужен. Вот и итальянцы болтают, был у них рей Витторио — макароны по лире за кило шли, а теперь плата — сто двадцать. Вот как, без патретика-то.
Наступает приемный час, и к нам подтягиваются другие обитатели лагеря. С большинством я встретился лишь здесь, в Пагани, но есть и старые знакомцы. Среди них Александр Иванович. ИРО гоняет нас с ним по одному и тому же кругу: познакомились в Чине-Читта, потом в Баньоли встретились, потом в Пагани. За это время он одолел не только российскую грамоту — совсем хорошо стал писать, — но и отечественную историю, перечитал все мои немногие книги. Перечитав, предложил мне обменять Лермонтова и том истории Елпатьевского на новый костюм. Историю я ему подарил, а Лермонтова сменять отказался, как ни уговаривал меня Александр Иванович. Очень уж ему Лермонтова хотелось.
— Такие стихи, такие… выразить не могу.
Приходят казаки, уцелевшие от Лиенца и Римини: огромный и шумный Селиверстыч, тихий, сосредоточенный в себе Сапунов, два брата Тимохины. Это все те, перед кем по разным причинам, но одинаково неуклонно закрываются двери всех стран эмиграции. То двух сантиметров роста не хватит, то лишние года окажутся, то вдруг, как у богатыря Селиверстыча, неожиданно обнаружат туберкулез.
Заходят и наши церковные солисты: Татьяна Михайловна и доктор. Они тоже застряли в Италии. У Татьяны Михайловны пятнадцатилетний сын. Пролетал красный бомбовоз над русским городом, где она жила, и для порядку сбросил остатки своего груза на пригородную слободку, где не было ни одного немца. Домишко ее разнесло, а ребенок получил удар в голову, онемел и растет тихим идиотом. Лишившись крова, она поступила в немецкий лазарет и с ним двинулась на запад. Дальше обычная история — стремительный петлистый бег от «горячо любящей родины», часто пешком, таща за руку сына.
Теперь его не пускают ни в одну из свободных стран, и сколько ни уговаривают разумные европейцы неразумную русскую мать забросить своего сына в какой-нибудь приют и эмигрировать одной, она не соглашается.
Доктор мог бы уехать, но его одинокий путь скрестился и сплелся с путем Татьяны Михайловны. Выход ясен: пережениться. Но и здесь рогатка. Татьяна Михайловна не может документально доказать смерти первого мужа, убитого на фронте, — ни в церкви не венчают, ни в муниципио не регистрируют брака.
Так и ждут они того времени, когда кончатся полномочия ИРО и все остатки дипийского племени свалят в какой-либо угол задворок культурного мира.
— Везде проживем. Работать умеем!
Доктор за это время стал электротехником, фельдшерица Татьяна Михайловна — высококвалифицированной прачкой.
Приходит и полковник из соседней палаты. Он больше молчит и слушает.
Мы делимся печатными и непечатными лагерными новостями, с точностью до одной миллионной определяем все ошибки политики Трумэна, дружно ругаем социалистов всех наций и языков, порой спорим. Потом в порядке строгой очереди распределяем газеты и расходимся.
***Вечером мы с полковником сидим на приступочке лазаретного барака и покуриваем свои вертуны. Духота дня уступила место ночной прохладе. Горы в лиловом тумане.
— Хороша, все-таки, она, Италия эта самая.
— Неплоха.
— А я вот слушаю всех вас, — говорит полковник, — и удивляюсь.
— Чему же?
— Кажется, вам-то, еще не привыкшим к Европе, должно быть здесь особенно чуждо. Тоска по родине нашей у вас должна быть сильней, чем у нас, повыветрившихся. А выходит наоборот.
— Это потому, что к нам родина-то сама наоборот повернулась.
— Вы «охоту за черепами» подразумеваете?
— Она только одно из следствий. Фрагмент, частица целого. Дело-то в том, полковник, что вы увезли с Графской пристани память о лучших годах вашей жизни, а мы сквозь все наши проволочные заграждения — память о муке, страдании, нищете, тесноте, унижениях тащили. Мы эту память волокли, а она нас под зад толкала. Для вас Европа разом стала минусом, а для нас даже вот эта мусорная куча ировская все-таки плюсом.
— Неужели-же так?
— А вы взгляните на нас. Вот колхозник в галстучке и в фетровой шляпе разгуливает. А там? Ведь у него второй пары латаных штанов не было. Вот шахтер. Он теперь над фаянсовым умывальником душистым мылом моется и ногти себе чистит, а там, как приходил из шахты, так в угле весь и спать заваливался. Да и утром его не смывал. Из собственного рта умывался. Возьмите хоть Татьяну Михайловну. Какая она там политическая эмигрантка, просто ветром ее занесло сюда. Думаете, легко было ей со своим дефективным от «братьев» пешком удирать? А удирала. Где же тут тоску по родине взять?