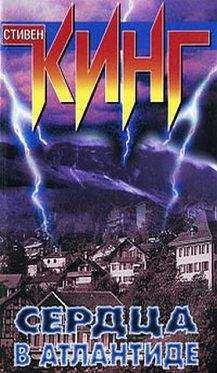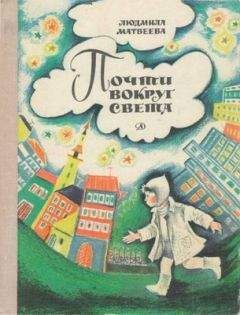Филип Рот - Призрак уходит
Смешно и оригинально — вот как Джордж и его друзья представляли себе свою смерть, когда еще не верилось, что она в самом деле наступит, когда эти мысли были лишь поводом пошутить. «О! А ведь есть еще смерть!» Но смерть Джорджа Плимптона не была ни смешной, ни оригинальной. И абсолютно не соответствовала его фантазиям. Он умер не в полосатой спортивной форме на стадионе «Янки», а в полосатой пижаме, во сне. Умер как все мы — в ранге любителя.
Вынести этого я уже не мог. Невыносима была энергия мальчика-переростка, его упоенная самоуверенность, гордость ролью энтузиаста-рассказчика. И что окончательно добивало — Джордж тоже не мог бы этого вынести. Но если я намеревался сделать все возможное, чтобы Климан не выпустил биографию Лоноффа, необходимо было подавить волнообразно подступавшее желание сесть в машину и поскорее вернуться в Беркшир. Надо было набраться терпения и посмотреть, какие еще шаги предпримет Климан для достижения своих целей. Почти позабыв за последние годы, что надо делать в случае чистого антагонизма, я приказал себе не обольщаться, отказывая оппоненту в проницательности, сколько бы он ни прятался за спонтанной болтливостью.
Допив вторую чашку кофе, Климан внезапно сказал:
— Связь Лоноффа с сестрой меняет дело, согласитесь.
Значит, Джейми призналась ему, что все мне рассказала. Еще одна непонятная грань в ее поведении. Какие выводы я должен сделать — если это вообще возможно — из того, что ока выбрала для себя роль посредницы между мной и Климаном?
— Все это глупости, — заявил я.
Он, наклонившись, похлопал ладонью по папке.
— Роман не доказательство. Роман — это роман, — возразил я и снова принялся за еду.
Он улыбнулся и, опять наклонившись над папкой, открыл ее, достал конверт из светло-коричневой манильской бумаги, снял зажим и высыпал содержимое на стол, прямо среди тарелок. Мы сидели возле окна и легко могли видеть людей, идущих по улице. Когда я на миг поднял голову, все они разговаривали по мобильникам. Почему я воспринимал их сотовые телефоны как символ того, от чего мне хотелось сбежать? Они были естественным следствием технического прогресса, и все же в их распространении я видел знак моей безмерной удаленности от общества современных людей. Я больше не принадлежу к ним, думалось мне. Время моей принадлежности к ним истекло. Мне надо уехать.
Я взял со стола фотографии. Четыре блеклых изображения худого высокого Лоноффа и худенькой высокой девушки — по уверениям Климана, его сестры Фриды. На одном снимке они стояли перед непримечательным деревянным домом, на тротуаре, казалось купавшемся в лучах солнца. Фрида в белом летнем платье, с длинными пышными косами. Изображая крайнюю усталость, Лонофф положил голову ей на плечо, а она широко улыбается, подбородок у нее тяжеловат, крупные зубы привносят легкое сходство со здоровым домашним животным. Он выглядит красивым, темные волосы высоко зачесаны надо лбом, худощавое лицо вызывает в памяти образ жителя пустыни — не то еврея, не то бедуина. На другом снимке оба смотрят вверх — сидят на траве у расстеленной для пикника скатерти и потешаются над чем-то в тарелке, на что Лонофф указывает ей пальцем. На третьем они постарше. Лонофф стоит, высоко подняв руку, а ставшая плотнее Фрида изображает собачку с умоляюще поднятыми лапками. Лонофф, напустивший на себя строгий вид, командует. На четвертом ей уже, вероятно, лет двадцать, и она явно больше не желает послушно исполнять все прихоти брата и выглядит крупноватой, неулыбчивой молодой женщиной, а он — по контрасту — почти бесплотным и совершенно свободным от всех искушений, кроме невинного зова юношеской музы.
Можно было бы доказать, хоть в суде, что никто, кроме воспламененного своей идеей Климана, не углядел бы в этих фотографиях ничего подозрительного и сказал бы, что из них только то и можно извлечь, что сводные брат и сестра находились в хороших отношениях, были друг к другу привязаны, скорее всего, хорошо понимали друг друга и в первой четверти двадцатого столетия кто-то — отец, сосед, друг — несколько раз сфотографировал их вместе.
— Ну что ж, фотографии, — уронил я. — В них ничего особенного.
— В романе Лоноффа роль совратительницы играет Фрида.
— В романе нет ни Лоноффа, ни Фриды.
— Избавьте меня от лекции о непроницаемой грани, отделяющей вымысел от реальности. Все это пережил сам Лонофф. Это мучительная исповедь. замаскированная под роман.
— Или роман, замаскированный под мучительную исповедь.
— Тогда почему Лоноффу было так страшно писать его?
— Потому что писатели могут пугаться написанного. Магия вымысла способна и на большее.
— Вы видели фотографии, — изрек он таким тоном, словно предъявил мне порнографические открытки, — а теперь я покажу рукопись, и тогда вы не сможете утверждать, будто в романе описано то, что только могло бы случиться, но чего не было в действительности.
— Послушайте, Климан, у вас ничего не получится. Думаю, это совсем не сюрприз для такого litterateur, как вы.
Он молча вынул рукопись из папки и положил ее на фотографии. Двести — триста страниц, перехваченных толстой эластичной резинкой.
Какая беда, что первая часть романа, который Лонофф так и не смог довести до конца, считал неудачным и, может быть, даже и дописав, не стал бы печатать, находится в руках не ведающего стыда, беспринципного, пробивного и безответственного парня, чье отношение к литературе полностью противоположно тому, которое исповедовал Лонофф!
— Вы получили это от Эми Беллет? Или украли у этой несчастной женщины?
Вместо ответа он подтолкнул ко мне рукопись:
— Фотокопия. Сделал специально для вас.
Он по-прежнему не хотел выпускать меня из когтей. Я мог оказаться полезен. Одна возможность как-нибудь при случае упомянуть, что он дал мне копию, и то способна принести пользу. Какой же я слабак в его глазах! — мелькнула мысль. И тут же я повернул ее по-другому: каким же слабаком я. вероятно, стал, живя отшельником там, у себя на горе! Почему я сижу в этом кафе, за этим столом? Все, что он рассказал мне о наших договоренностях, — вранье. Не было ни телефонного разговора, ни согласия на ланч, ни просьбы рассказать о прощании с Джорджем и принести рукопись Лоноффа. Теперь я вдруг ясно вспомнил, что было. От вас воняет! Вы смердите. И да, я снова смердел. Залах, поднимавшийся от промежности, был в точности таким, какой я чувствовал на лестнице и в коридорах дома, где жила Эми, — а он, выкрикивавший мне все эти оскорбления, спокойно доедал сандвич, сидя едва ли в метре от того места, где я доедал свой. И почему только я допустил эту встречу? Не потому ли, что я беззащитен, как Эми, размягчен и мозг мой расслаблен до такой степени, которая прежде казалась бы просто невероятной?
И Климан это знал. Климан способствовал этому. Климан точно определил мое состояние, рассудив: и кто мог бы сказать, что Натан Цукерман проглотит этакое? И все-таки он проглотит. Он выдохся. Это жалкое одинокое существо. Измученный беглец, которому не выдержать ставшего грубым и колючим мира, импотент, выхолощенный своим бессилием, человек в худшей фазе своей жизни. Поддерживай в нем неуверенность, избегай прямых схваток, и сукин сын уползет, поджав хвост, в свое логово. Перечитай-ка «Строителя Сольнеса», Цукерман, освободи дорогу молодым!
Я наблюдал за победным парением Климана, и на меня наваливалось желание убить его. Но неожиданно я увидел, что это не человек, а дверь. На том месте, где сидел Климан, находилась тяжелая деревянная дверь. Что б это значило? Что за ней? Что от чего отделяется этой дверью? Ясность от хаоса? Да, возможно. Ведь мне никогда не понять, говорит ли он правду, забыл ли я что-то или он на ходу все выдумывает. Дверь между ясностью и хаосом, между Эми и Джейми, дверь, ведущая в смерть Джорджа Плимптона, дверь, что распахивается и захлопывается в нескольких дюймах от моего лица. Есть ли в нем что-то большее? Насколько мне известно, просто дверь.
— Если вы снимете запреты, я смогу многое сделать для Лоноффа, — сказал он.
Я рассмеялся:
— Вы грубо обманули тяжелобольную женщину с опухолью мозга. Украли у нее — так или этак — рукопись.
— Не делал ничего подобного.
— Нет, сделали. Она не дала бы одну только первую половину. Если б решила доверить вам рукопись, то всю. Вы прикарманили то, до чего сумели дотянуться. Второй части не было в поле зрения, или она находилась где-нибудь в глубине квартиры, и вам было туда не добраться. Конечно украли. С чего бы ей пришло в голову дать половину романа? А теперь, — продолжал я, не дав ему возразить, — теперь собираетесь обработать меня?
— Ну, вы-то умеете о себе позаботиться, — проговорил он, ничуть не обескураженно. — Написали уймищу книг. Вволю поразвлеклись. Да и безжалостным быть умеете.