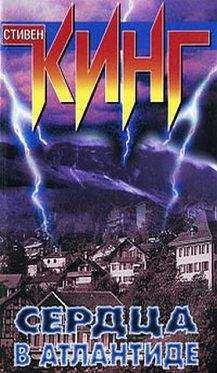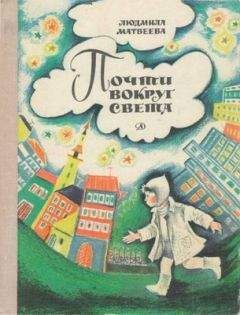Филип Рот - Призрак уходит
— Нет, никакого совместного ланча не будет.
— Но она у меня в руках. Я принес ее. И хочу вам показать.
— Показать что?
— Первую часть романа. Рукопись Лоноффа.
— У меня нет никакого желания ее видеть.
— Но ведь вы сами попросили принести ее.
— Этого не было. До свидания.
Листы из гостиничного блокнота, исписанные с двух сторон впечатлениями от вечера с Эми и вариациями на тему «Он и Она», — все, что я написал после того, как вернулся, и до того, как заснул одетый и увидел во сне свою мать, — все было по-прежнему на столе. За пять минут, прошедших до следующего звонка Климана, я просмотрел свои записи, стараясь восстановить все, что сказал Эми о Климане и биографии. Как обещал пресечь его попытки выступить биографом. Как убедил ее, что замысел романа Лонофф взял не из собственной жизни, а из весьма сомнительных научных спекуляций о биографии Натаниеля Готорна. Как дал ей немного денег… Прочитанное помогло припомнить слова и поступки, но так и не дало представления о сумме моих намерений, если они у меня действительно были.
Климан, звонивший уже из вестибюля, неожиданно навел меня на мысль: а не он ли был автором тех угрожающих открыток, которые одиннадцать лет назад получили мой рецензент и я? Конечно, это весьма неправдоподобно — но и не исключено полностью. Что, если виновником моего переезда и смены образа жизни на целое десятилетие был злобный выскочка первокурсник? Если это и вправду так, то ничего более смехотворного не выдумать, но как раз смехотворность допущения на несколько секунд убедила меня в его истинности. Решение уехать в глушь да там и остаться по своей нелепости было равно догадке, что именно Ричард Климан вынудил меня на этот шаг.
— Спущусь к вам через несколько минут. И мы пойдем куда-нибудь перекусить, — сказал я ему. Добавив мысленно: я уничтожу все твои замыслы и порушу все твои планы.
Я принял такое решение. Должен был это сделать. Не мог просто болтать и писать об этом. Нет, перед тем как расстаться с Манхэттеном и вернуться домой, я должен был как минимум взять верх над Климаном. Одолеть его было моим последним долгом перед литературой.
Но как уложить в голове, что Джордж умер? Я снова возвратился к этой мысли. Если Джорджа не было уже год, в абсурд превращалось все. Как такое могло с ним произойти? И как могло произойти со мной то, что происходило последние одиннадцать лет? Не видеть Джорджа, вообще никого не видеть! Почему я так поступил? По этой причине? Или по той? Сузил жизнь из-за какой-то случайности, какого-то человека, какого-то мелкого недоразумения? Каким пришельцем с другой планеты я вдруг оказался, и все потому, что Джордж Плимптон умер, а я и не знал. Внезапно тот образ жизни, который я вел, потерял всякое оправдание, а Джордж оказался моим… что же за слово я ищу? Антоним к «двойнику». Внезапно Джордж Плимптон превратился в защитника всего, от чего я отрекся, сослав себя в горы Лоноффа, чтобы спрятаться там от великого разнообразия жизни. «Это время — наше, — говорил Джордж, и его замечательный голос дышал убежденностью. — Это люди, среди которых нам выпало жить. И мы должны быть частицей этого общества».
Климан повел меня в кафе, расположенное неподалеку, на Шестой авеню, и, как только мы сделали заказ, начал повествовать о прощании с Джорджем. Привыкнув строго регулировать свое дневное расписание и использовать каждый час так, как считал правильным, я теперь обнаружил, что сижу за ланчем — в одежде, которую не менял часов тридцать, с прокладкой в пластиковых трусах, не менявшейся с прошлой нота, — против олицетворения непредсказуемой силы, уже нависающей надо мной, уже давящей. Он пошел в наступление, прежде чем подали апельсиновый сок, и в этой поспешности угадывалось желание показать, что, несмотря на все мои предупреждения и угрозы, я не только не сильнее его, но не ровня ему, так что он абсолютно свободен в своих поступках и плевать хотел на мои запреты. Евреям, подумал я, все никак не расстаться с этим стилем. Эдди Кантор. Джерри Льюис. Эбби Хоффман. Ленни Брюс. Всегда в кипении и не способны трезво взглянуть на что бы то ни было. А мне-то казалось, что людей такого типа практически нет среди нынешнего поколения и мягкий рассудительный Билли Давидофф гораздо лучше воплощает современные правила поведения. Насколько я мог судить, Климан действительно был последним из агитаторов и фрондеров. Но я очень давно не сталкивался с людьми его замеса. Я вообще очень давно не сталкивался со многими проявлениями жизни, отгородился от них — и не только сопротивляясь напору чужой энергии, но и не желая ни «играть самого себя», ни бороться с тем фантастическим образом, который наивно мыслящие читатели вынесли из знакомства с моими книгами; все это было опостылевшей, скучной работой, и я успешно от нее отмежевался. А ведь и я когда-то был фрондером. И именно фрондера приветил и напечатал Джордж Плимптон, когда все другие отказывались от моих рукописей. Но теперь все иначе. И наблюдаю я не за Джорджем, вышедшим в 1959-м против Арчи Мура на ринге в спортзале Стилмана, а за самим собой, оказавшимся на ринге чужого мне Манхэттена против размахивающего клюшкой для гольфа парня образца 2004-го.
— Это было почти год назад, в ноябре, — рассказывал Климан. — В церкви Святого Иоанна Божественного. Огромное помещение, но все забито до отказа. Все места заняты. Две тысячи человек. Может, больше. Сначала вышел хор евангелистов. Джордж где-то их слышал, они ему нравились, и поэтому их пригласили. Ставным у них был очень высокий, приятной наружности черный парень, и, как только они запели, он начал выкрикивать: «Праздник! Это праздник!», и я подумал: Господи, до чего же мы докатились, человек умер, а это называют праздником. «Праздник! Пусть все говорят: это праздник. Скажи тому, кто сидит рядом: это праздник!» И все белые начинают не в такт кивать музыке, и, скажу прямо, все это как-то не слишком подходит для Джорджа. Когда это закончилось, священник произнес пасторское напутствие. А потом начались речи. Сначала сестра Джорджа рассказала, как он превратил свою комнату в их доме на Лонг-Айленде в настоящий музей, где хранил шкуры зверей и чучела птиц, рассказала, как страстно он увлекался всем этим, и подала рассказ великолепно. Совершенная безыскусность и странное отсутствие всякой странности, которое удается только прекрасно воспитанным протестантам-англосаксам старой закалки. Затем говорил человек из Техаса, некто Виктор Эммануэль, лет пятидесяти, а может, и больше, специалист-орнитолог. Их с Джорджем связывал интерес к птицам, и он очень тускло поведал, как они вместе организовывали наблюдения за птицами и отправлялись в экспедиции — и все это в Доме Божием, хотя Бога упомянули только священник и певцы-евангелисты. Все остальные и не заикнулись о Нем, к ним это не имело отношения, это была чистая случайность, что они собрались именно здесь. Потом был Норман Мейлер. Ошеломляюще! Раньше я его видел только на экране. Мужику восемьдесят, оба колена перебиты, ходит, тяжело опираясь на две палки, не ходит — передвигается, но, поднимаясь на кафедру, отказался от помощи и даже отставил одну из палок. Сам взошел на эту высокую кафедру, и все словно мысленно помогали ему, шаг за шагом. Наконец победа одержана, и героическая драма начинается. Чистые «Сумерки богов». Он обводит глазами присутствующих. Потом устремляет взгляд вдаль: церковный неф, Амстердам-авеню, вся Америка вплоть до Тихого океана. Похож, как мне кажется, на отца Мэппла из «Моби Дика». Так и ждешь, что воскликнет: «Друзья мои, моряки!» — и начнет проповедовать об уроках, преподанных нам Ионой. Но нет, он, как и все, говорит самыми простыми словами. Это уже не Мейлер, рвущийся в бой, но отпечаток его личности — на каждой фразе. Он говорит о дружбе с Джорджем, которая расцвела лишь в последние годы, рассказывает, как они вместе с женами ездили в разные города и играли в написанной ими в соавторстве пьесе, как тесная дружба связала две пары, а я думаю: «Да, Америка, ты долго шла к этому, но вот, свершилось: Норман Мейлер стоит на кафедре и выступает в роли добродетельного супруга, поющего хвалу семейным узам. Блюстители основ, ликуйте: ваш час настал».
Он говорил без остановки. Этим каскадом слов, призванным согнуть меня в бараний рог, он стирал все прежде случившееся между нами и, надо сказать, неплохо справлялся с поставленной им задачей: чем ярче разгоралось красноречие упоенного собой Климана, тем ничтожнее я становился, тем больше съеживался. Мейлер уже не то что не рвется в бой — едва стоит на ногах. Эми уже не блещет красотой и не владеет своим мозгом. Я уже не способен к полноценной умственной работе, утратил потенцию и контроль над выведением мочи. Джорджа Плимптона уже нет на этой земле. Секрет Э. И. Лоноффа уже не секрет, если, конечно, допустить, что этот секрет вообще когда-то существовал. Все мы уже не. Но опьяненное сознание Ричарда Климана полно уверенности, что его сердце, колени, простата, мозг, сфинктер и прочие части тела застрахованы от любых повреждений и он — единственный на свете — не зависит от сбоев в работе клеток своего организма. Такую веру трудно считать высоким полетом мысли, когда речь о тех, кому двадцать восемь, и уж в особенности о тех, кто лелеет убеждение в своей великой миссии. Это не уже не, теряющие физические способности и контроль над собственным телом, стыдящиеся потери своего «я», понесшие утраты и ощущающие, как тело мучительно протестестует против навязанной ему дряхлости. Это еще не — те, что не понимают, как быстро и неожиданно все может измениться.