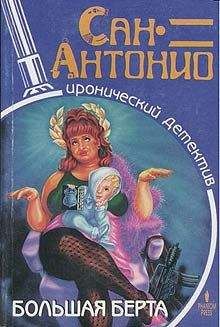Оксана Даровская - Браво Берте
– Что у нее было, Евгений Павлович?
– Приличное кровотечение, множественная миома, слишком крупные узлы для консервативного лечения, матку пришлось удалить. К счастью, только матку.
– Это опасно?
– Не очень. Лишилась детородной функции, но сорок пять – возраст уже не детородный. Назначим для поддержания гормонального фона кое-какие препараты, надеюсь, все будет в порядке.
– Почему тогда у нее такое состояние? Она говорит, у нее все удалили?
– Угнетенная психика, депрессия. После гистерэктомии явление распространенное. Тут мы не властны, но насколько я помню… – Он вытащил из стопки справа на столе историю болезни, пробежал глазами по медицинским каракулям первой страницы. – Да, правильно, замужем. У замужних женщин по статистике адаптация протекает легче. С отцом своим поговорите, пусть будет к ней помягче, создаст дома благоприятную атмосферу, об операции не напоминает.
– Он мне не отец. Он заходил к вам?
Врач посмотрел на нее долго, внимательно:
– Пока нет. Возможно, собирается зайти.
Голос у него был спокойный, мягкий, весь он как будто источал надежность и умиротворение, напряжение немного отпустило Катю.
– Вижу, вы девушка разумная, – продолжил он, – при необходимости сами поддержать сумеете. У вашей мамы довольно крепкий организм. Теперь насчет анализов… – Он отыскал среди бесчисленных вклеек одну из последних, развернул ее. – СОЭ почти в норме, гемоглобин приличный. Думаю, на следующей неделе выпишем. Раз в полгода наблюдаться обязательно. – Закрыв историю болезни, он припечатал ее пухлой квадратной ладонью. – На ночь сделаем успокоительный укольчик, сон для нее лучшее лекарство. Вот как-то так.
– Спасибо, доктор.
Катя вышла из ординаторской, дошла до туалета, закрылась в дальней кабинке и заплакала.
Глава 17. Цербер
У Кати случился вынужденный перерыв в работе. С середины июня и до осени она была разлучена с Севой – Клотильда отвезла его на каникулы в деревню к своей матери. Денежное обеспечение в летние месяцы целиком легло на Кирилла, он участил разгрузку продуктовых фур для «Седьмого континента». Зато у Кати после сдачи сессии появилась возможность продолжить работу над отцовскими рукописями. Кирилл поощрял ее научное рвение. Несколько раз за лето звонил Сева, взахлеб рассказывал, как петухи дерутся из-за кур, а «куры – та-акие дуры». Катя смеялась. В середине августа позвонила Клотильда, похвасталась, что летит с другом на две недели в Эмираты, проверить крепость чувств, уточнила, может ли рассчитывать на Катю в новом учебном году, после чего не без ревности добавила, что Сева к ней прикипел, ни о ком другом слышать не хочет. Катя подтвердила свое согласие.
Это была Катина идея – вывезти Берту в ресторан.
– Удивительно, – сказала она Кириллу после очередной поездки к Берте, – у нас с Бертой дни рождения оказались в один день – двадцать второго августа. Может, устроим ей праздник, пригласим куда-нибудь? А то смотрит с утра до вечера на одних старперов, света белого не видит. Двадцать второе, правда, среда, ты в ночь работаешь, можно двадцать пятого, в субботу. Только не знаю, какое место могло бы ей понравиться? Как думаешь, Кир?
Кирилл задумал подарить Кате ко дню рождения новый ноутбук и тайно приберегал взятую у матери сумму, но оставить тысяч двадцать на ресторан он мог себе позволить.
– Ты точно этого хочешь? – спросил он.
– Очень.
– Тогда, пожалуй, «Пушкин».
– А денег на «Пушкин» нам хватит?
Он сделал вид, что подсчитывает в уме цены тамошних блюд.
– Хватит, если спиртным до фанатизма не увлекаться.
– Света говорила, рядом с «Пушкиным» есть «Турандот», шикарное место. Правда, я не была ни в «Пушкине», ни в «Турандот».
– Только не «Турандот»! – почти крикнул Кирилл.
Катя удивленно на него посмотрела.
– Чересчур пафосное местечко, зачем лишние понты разводить, – объяснил он, – «Пушкин» гораздо демократичнее, цены там не такие зверские.
– Хорошо, пусть будет «Пушкин», только, пожалуйста, ничего не дари мне тогда, мне ценнее будет, если мы втроем посидим.
– Ладно, разберемся, – ответил Кирилл. – Заранее надо будет столик у окна заказать, чтобы твоя Берта могла Тверской бульвар наблюдать. Придется Серому на своей драгоценной «бэхе» три ходки сделать: с нами за ней съездить, потом отвезти ее назад, чтобы все было красиво.
Кате мечталось организовать Берте сюрприз. С другой стороны, необходимо было предупредить ее заранее. Порядок в заведении был таков: если отпрашиваешься больше чем на три часа, нужно подавать заявление руководству чуть ли не за две недели.
Сейчас Катя ждала Берту у окна в холле второго этажа, пока та собиралась на прогулку. «Сегодня скажу, – решила Катя, – не буду тянуть. Пусть подготовится». Она увидела, как по лестнице поднимается директор интерната. Он вызывал в Кате странные чувства, ассоциировался с выброшенной на берег полумертвой рыбой, шевелящей жабрами редко-редко. «Почему она зовет его Цербер? Никакой он не Цербер, а полудохлый карась – рыбий глаз». – «Опять та же девчонка, – подумал, приметив ее, Борис Ермолаевич, – зачастила. Что их может связывать с взбалмошной бывшей актрисой? Какие могут быть у них общие интересы? Надо ужесточить режим, ограничить часы посещений. Слишком много дал я им свободы. Распусти-ились. Не ценят хорошего отношения. Особенно некоторые».
Как только он ступил на этаж, Катя отвернулась к окну. Стояла теперь к нему спиной, опершись о раму поднятой, почти прозрачной от худобы рукой, облитая мягким августовским солнцем, и вдруг пронзительно напомнила Борису Ермолаевичу его первую и единственную любовь. Его Тасю. Он надеялся, что вытравил из сознания тот страшный фрагмент своей юности. Оказалось, нет.
Его родители поженились за неделю до войны. А забеременеть мать умудрилась, когда осенью сорок четвертого старший лейтенант Ермолай Церазов примчался домой на двухдневную побывку. Мальчик, названный Борисом, родился в июне сорок пятого. За месяц до рождения сына лейтенанта Церазова намертво свалила на окраине Берлина шальная пуля. Борис знал отца по подробным материнским рассказам, скромному наследию из пачки фронтовых писем, трофейного «вальтера П38» и трех фотокарточек. Одна, высокохудожественная, с коричневыми завитками в резных уголках, была сделана в фотоателье в день родительской свадьбы; две другие, скромные, любительские, присланы в разное время с фронта.
Они с Тасей учились в одной школе. Он, годом ее старше, перешел в ту пору в выпускной. Оба были гордостью школы. Мать, увидав однажды из окна автобуса, как они с Тасей вдвоем шли по улице, сказала вечером того же дня: «Похоже, ты однолюб, Борька, как твой отец. Однолюбы сродни белым воронам, встречаются на планете очень редко. Приводи свою зазнобу, погляжу, что за птицу ты выбрал». Когда втроем пили чай, мать в основном молчала, но по ее щедро улыбающимся глазам он прочитал – она признала Тасю, почувствовала в ней свою. Уж он-то хорошо знал этот теплый, лучащийся материнский взгляд. Убрав со стола посуду, мать поставила памятную пластинку сороковых с медленным фокстротом «Звездный свет». «Не стесняйтесь, потанцуйте, а я полюбуюсь», – сказала она. И они танцевали сначала немного смущенно, потом все свободнее под негромкий голос Ружены Сикоры: «О звездный свет, лучистый свет недавних лет, его огнем сегодня вновь душа согрета…»
Неумело целовались они на июньском закате за старой голубятней, под утробное воркование местных жильцов. Голубятню с отборными белыми красавцами держал в конце двора вечно пьяный одноногий дядя Коля. Когда, тихо смеясь, Тася отстранилась от него, он заметил, как ей на плечо легли два маленьких белоснежных перышка. С наивным языческим суеверием он подумал, что это хороший знак, теперь они всегда будут вместе и ничто, кроме смерти, не разлучит их. Вкус ее губ напоминал свежее абрикосовое варенье с косточкой. Проводив ее домой, он неторопливо брел по темноте назад, растворяясь в счастье, то и дело притрагиваясь пальцами к губам, где осталась частица ее аромата. Он не успел вздрогнуть, когда на него навалилась яростная тяжелая масса, зажала рот чем-то горячим, влажным, со жгучим металлическим привкусом, свалила с ног, поволокла в кусты. Удары по ребрам, по голове, по лицу были частыми и сильными, он все никак не отключался, ясно различал голоса: «Мало мне матери-алкашки, еще эта сопля в шлюхи подалась. Ишачишь на них, как папа Карло, а эти суки ничего не ценят. Давай, Витек, стягивай с него портки. Щас глянем, что у него за калибр, чем он твою сеструху оприходовал». Луч карманного фонарика, попрыгав, нацелился сначала ему в лицо, потом резко скакнул ниже пояса. «Думаешь опустить? Петушком сделать?» – «Мараться… теперь он без того морально опущенный». – «Хотя бы за деньги, а то за так, давалка бесплатная». «Да откуда у этого голожопника деньги?» – «Может, укоротим?» – «Да ну его… тяжкие телесные… садиться за эту падаль… запомни, еще подойдешь…» «Хорош, пацаны, бросай его, пошли с ней разбираться. Этот недомерок к ней больше не приблизится, за версту будет обходить».