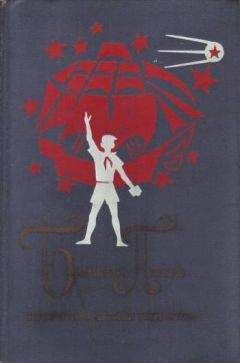Владимир Маканин - Пойте им тихо
Они приехали в обычный высокий дом на окраине Москвы. Старуха жила одна: дотягивала, людям не жалуясь, одинокую свою старость в затхлой квартирке. Из немалого, как выяснилось, количества детей здесь ее навещала лишь вот эта напористая лысина.
Старуха и встала, и спросила о погоде, и, захлопотав, поползла по кухне вконец разношенным телом. «Да ты полежи, мама. Полежи!» — приказывал желто-лысый сын, однако она собрала тряскими руками кой-какую снедь на стол, со вздохом, но и со значительностью села, после чего им, обоим, ничего тоже не оставалось, как сесть и перекусить, как бы с дороги. Пока они жевали, старуха ахала и охала, что жисть пришла к точке, зачем же лечиться: «…И чего ты человеку голову морочишь — деньги потратил, в такую даль привез!» — ахала и охала она притворно, но уже пятью минутами спустя ей, задыхающейся, стало плохо, и в уборной ее рвало непритворно. Лысый настаивал, чтобы мама разделась и чтобы ее осмотрели, однако старуха не далась, да и Коляня промямлил, он, мол, не врач — помощник, приехавший лишь выслушать ее для начала и именно со слов записать недуги. Старуха же и рассказывать отказалась, старуха была кремень. С тем Коляня и уехал, под занавес увидев восхитительную семейную сценку, где старуха вскрикивала: «Не трать попусту деньги, сынок!» — а лысый орал: «Ты, мама, с ума сошла — зачем же я этого недоумка вез через всю Москву!»
В такси лысый не замолкал, он, мол, сам расскажет и опишет мамины недуги Коляне. Неистощимо напористый, он умел давить, умел настаивать, и машина стала, и Коляня вдруг оказался, или, лучше, вдруг обнаружил себя в ресторане за столиком, где темнел коньяк и белели закуски, — лысый же, сидя напротив, без умолку говорил о том, как он любит мать.
Коляня пил мало, был, спохватившийся, начеку, а лысый наседал: «Я ведь тебя ублажаю. Не ублажу тебя — твой чудотворец мне не поможет, верно?» Появилась, как из рукава, толстая девица, которую лысый маг, оказывается, загодя пригласил сюда, к этому самому часу. «Какая корма! — громко шептал лысый. — Нет, ты же мужик, ты же молодой мужик, ты оцени, как-кая к-корма!» Толстуха, впрочем, была здесь ровно пять минут. Горделивая, она пить пила, но слова слышала, — расслышав, влепила лысому оплеуху и ушла. Чуя поздний час, Коляня порывался встать, лысый не отпускал — в параллель же (слово Коляне, два — ей) напористый лысый уговаривал дамочку лет тридцати пяти, сидевшую в одиночестве, неподалеку. Он перетащил ее за их столик и, без умолку болтая, вливал в нее коньяк, путал, хитрец, свою и не свою рюмки. Он уговаривал дамочку полюбить его, лысого, но умного. Коляне он мигнул. «Глупенькая, — клеил он дамочку, — они все тебя только до утра хотят, а я много дольше: я женюсь. Не смотри, что я лысый, я очень и очень умный — ну как, поладим?» Дамочка к минуте была уже совершенно пьяна. Глаза у нее не промаргивали, застывшие и мутные: она молчала. Она оцепенела. «Ну, поладим? — спрашивал неугомонный лысый. — Зачем тебе безденежные людишки, зачем нам голытьба?» Он, забыв о Коляне, вошел в роль, близкую теперь к нежности. Он трогал ее за руки, крутил на ее пальце колечко. Вдруг выпав из глубокого молчания, она хрипло сказала — ладно, если умный, я сделаю тебя доцентом в пединституте, хочешь?
Бред был как бред: общий. Она добавила:
— Сделаю доцентом. У меня там есть концы (связи)…
Сбросив ночную очумелость, Коляня встал, прошелся будто бы к оркестрантам, после чего исчез.
Лысый умыкнул Якушкина — на следующий же день.
* * *Бесноватый за ночь, по-видимому, уже сообразил, что Коляня — помеха. Он подстерег знахаря на улице, в одиночестве; уговорив на третьем слове, он впихнул старика в такси и, разумеется, крикнул: «Шеф, гони!..»
Якушкин же был в отличной форме — в самой говорливой своей полосе, и склонить к врачеванию его ничего по нынешним временам не стоило: стоило слов. Лысый на улице и сразу же эти слова ему сказал — попросил. Сказал о старенькой маме: о больной. Расправляя крылья, Якушкин уже в такси забубнил о душе, о том, что хапать не надо и что болезни не что иное, как мщение совести нашей за нашу же бездуховность. Лысый согласился, он старательно поддакивал: «Да, конечно… Да, доктор, вы совершенно правы…» — когда вылезли из машины, выяснилось, однако, что старенькой больной мамы нет и вообще мама тут не живет. Он привез Якушкина совсем в другой дом: тут жил приятель лысого, тоже, кстати, сильно лысеющий, — у лысеющего болела собака. Был это прекрасный черный пудель, попавший под колеса грузовика и кое-как ветеринарами склеенный.
Едва оторопь прошла, Якушкин впал в гнев: любовь к собакам, как известно, в те дни его раздражала. «Я учу людей любить друг друга!» — вскрикивал разъярившийся знахарь, он накричал и был плохо понят; ушел оскорбленный сам и оскорбивший лысеющего хозяина. Сказалось веянье: любовь к собакам только что и триумфально вошла в большой город. У людей, занятых и нервных, обнаружились неисчерпаемые запасы любви к животным, что и раздражало старика-максималиста, жаждавшего направить любовь на человека впрямую, а не через. Соответствующие книги и фильмы об умирающих добрых собаках уже появились, каждого вооружив. Якушкин же и глянуть не захотел на несчастного пуделя, который сутки за сутками не принимал пищи. Пес лежал на чистой подстилке, скуля — тихо и обреченно. «Соба-ака?» — кричал топчущийся в шаге от пуделя знахарь, оскорбленный же хозяин кричал на лысого: «Кого ты ко мне привел? Ты же нечеловека привел!» — «Дам деньги — он пса вылечит: он все может!» — вопил, вплетаясь, лысый, вынимал и прятал купюры в карман и вновь — вынимал. Якушкин ушел.
Нагнав, лысый усадил знахаря в такси и теперь, с напором, разбавленным ласковостью, уговаривал старика и ублажал: «Что же, мол, чудотворец милый, ты обиделся? не могу же, мол, сразу и с ходу я доверить тебе маму — хотел посмотреть тебя в деле». — «Выпусти из машины!» — кричал, свирепея, Якушкин.
— Я же только присмотреться хотел — ну, извини. Наука разве не проверяет сначала на псах? разве не режут их? не пихают в них новые таблетки?
— Выпусти!..
Они мчали по набережной. Таксист похмыкивал: ему, похмыкивающему, было уплачено вперед и много. «Да нет же, нет, — вопил, беснуясь, лысый, — я вам, Сергей Степанович, верю, я вам доверяю, мы сейчас же едем к маме!» Якушкин выскочил из машины, улучив миг — у светофора. Лысый же выскочил вслед с криком: «Умоляю! умоляю! — и вцепился, как клещ. — К маме, к маме едем, я вам доверяю!» Под сигналы застопоривших машин, под окрики и мат водителей (чужих — свой похмыкивал, держа дверцу открытой) лысому удалось все же старика усадить, и поехали, и наконец прибыли в тот стандартно высокий дом на окраине Москвы. Уже смеркалось.
Когда поднялись, в квартире никого не было; от соседей узнали, что старенькая мать увезена после приступа в больницу, там госпитализирована. И вновь Якушкин и лысый, удерживающий знахаря за рукав, сели в такси. К счастью, и в самый поздний час для напористого лысого все двери, как и не двери, были открыты.
Он мог бы проходить через стены. За недолгий путь по больничному коридору лысый, в тактике скользя и меняясь, договорился с медсестрой, после чего вопрос был улажен — и к старенькой маме допустили человека, который порекомендует ей травы, «неопасные и с народным уклоном». Женщин в палате было четыре. Все были старухи.
Они уже собирались спать. «Ох, миленькие мои», — мать лысого заохала. Она с трудом села. Охая, она прилаживала гребенку в седенькие жидкие волосы; гребенка выпадала, а старая женщина вытирала слезы, с внешним видом своим смирившись, — сложила на животе руки. «Вот, мама, приволок тебе самого лучшего врача в Москве!» — выкрикнул лысый. «Спасибо, сынок», — старуха прилегла, беззвучно и безбольно плакала.
Остальные старухи лежали, как и лежали, на своих местах, вялые и недвижные; они не взглянули на вошедших. Знахарь, шагнув, подсел к той, к кому привели, и действо началось без промедления — он впился глазами, напрягаясь и гоня из себя к ней обволакивающую энергию, он не врачевал, лишь искал подходы. «Ну, старенькая, говорить сейчас будем», — почти приказал знахарь. Он не сводил глаз.
«Говорить будем…» В палате тихо; ни шевеления, ни звука. «Да что ж говорить, отжила свое», — шепнула ему старуха; стихая, она вновь залилась плоскими, растекающимися по щекам слезами. Поспешила вдруг мелкими движениями крестить Якушкина, едва ли понимая вполне, зачем он и зачем сел рядом, — он же посуровел, будто бы она, от него прячась, хитрила; он приостановил сыплющиеся на него мелкие кресты и, суровея все больше, взял легкие венозные руки в свои. Он втирал несильно — у него были свои приемы и, подстраховывающие их, буравящие взгляды: он не давал ей отвечать, а также не давал жаловаться теми старушечьими словами, какими жаловалась и отвечала она последние десять-двадцать окаменевших лет. Знахарь багровел, напрягаясь. Работал. Был недоволен. Попадая в направленный пучок посылаемой энергии, старуха, конечно, подрагивала живой дрожью, и что-то в старушечьем ее нутре ожидаемо вспыхивало, но тут же гасло. Что-то возникало, вздымаясь в сухонькой грудке, но, мягчея, тут же опадало, лишь подергиваясь, как дергается переломанное крылышко. Пустота.