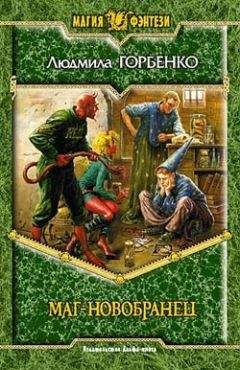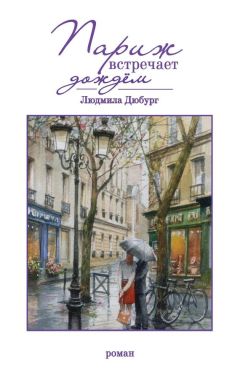Людмила Пятигорская - Блестящее одиночество
«Понимаешь ли, Лиза, для меня смысл каких-то слов остается неясным. Возьмем для примера „разочаровываться“. Что это значит? Поверь, у меня нет догадок. Ты спросишь: а почему? Изволь, я отвечу. Вот, Лиза, представь, возьмем только один пример: ты видела человека в одной ситуации — ситуации принуждения, поработившей его, сломившей волю и разум, ситуации, в которой он, человек, абсолютно бессилен, если, конечно, хочет выжить физически, но не морально». Лиза тупо икает, сотрясаясь всем телом, как бесноватая. Рывками, по-птичьи озирается по сторонам в надежде на чудесное избавление. Треп — великая сила, а если еще и взять правильный тон, то уморить «собеседника» вообще ничего не стоит. Мне самой уже тошно, но я продолжаю лить словопоток на Лизину голову. «Но вот, Лиза, прошло время, и обстановка кардинальным образом изменилась. И ты увидела того же самого человека в новом, лучшем декоре, когда счет пошел в его пользу и он стал отыгрываться. Представь: руки трепещут, глаза горят; теперь-то он может. И что делает наш „агнец божий“? Он принимается отрабатывать унижение, которому сам был подвержен. Пользуясь „полосой силы“, гнет и крушит всех, попавшихся под руку. Он готов на любую подлость, лишь бы сбросить ярмо себя прошлого. Ты считаешь, что меняется человек? Я считаю, что меняются декорации. Ну и возможности, разумеется. Вот и вопрос: на что человек способен в других — до той поры не его — благоприятствующих низости обстоятельствах? Но есть, Лиза, титаны, которые от перемены „данностей“ не зависят, плюют с колокольни. Они выше всех обстоятельств, потому что сами их создают и устанавливают законы… Да ты, я вижу, совсем замерзла. И ноги тебя не держат. Пойдем, я обещала, я покажу. Будет тебе сюрприз».
Похоже, Лиза близка к обмороку. Она стоит, мерно покачиваясь; шарит вокруг рукой, вслепую ища опоры. Хватаю ее под локоть, как траурную Электру, волоку к отхожему месту, разрисованному крылатыми ангелами. Заходим, щелкаю выключателем, накидываю крючок. Ангелы порхают по стенам наподобие грифов, пикирующих на падаль. «Вот, — говорю, — посмотри туда, прямо вниз. Что ты там видишь?» Лиза не верит своему счастью — она-то думает, что все, на этот раз пронесло и речь пойдет о хозяйственных неполадках. «Да ты наклонись к стульчаку, ниже, ниже». Она старательно нагибается над отверстием. «Илюша мне говорил, позавчера выгребали…» — гулко отзывается Лиза, просунув кочан в дыру. «Да ты не трусь, головомойки не будет, я совсем не о том. Скажи, с твоей теперешней перспективы удалось что-то увидеть?» — «Да больно темно, — гудит из подпола Лиза, — надо днем, чего и увижу…» — «Ты подожди, глаза к темноте привыкнут, все разъяснится…»
Я — в роскошной цветастой юбке с карманами. У меня как бы праздник — боевое крещение. Из правого вынимаю маленький пластмассовый шприц. Мне Никита вчера подарил, just in case, на случай непредвиденной обороны. Мгновенная смерть — без побочных эффектов и боли. А что я, по-вашему, живодер? Плохо же вы меня знаете. Проверяю мой шприц под светом тусклой, соплей свисающей лампочки, ангелы скалятся и шипят, немного надавливаю, мутная жидкость бьет тонкой сильной струей, напоминающей, в миниатюре, извержение спермы. «А его ты не видишь?» — для отвода глаз опять спрашиваю. «Кого?» — кричит Лиза из глубины. «Да его же, его! Сейчас я тебе помогу, считаем до трех и — секундочку!» Лиза громко считает, на счет «три» всаживаю иглу прямо ей в задницу. Лиза мякнет и опадает. Безвольно висит, безголовая, на вонючем траурном постаменте. Беру ее за ноги и пропихиваю в отверстие. Моя идиотская шаль, накинутая петлей Лизе на шею, цепляется за случайный гвоздь (надо будет Илюше на вид поставить) — и Лиза на этой шали, вниз невидимой головой, раскачиваясь, повисает. Пытаюсь порвать ткань зубами, но она держится намертво, не отпускает. «Сейчас, Лизок, подожди». Бегу в дощатый сарайчик за инструментами, хватаю садовые ножницы, несусь назад, отрезаю. Лиза уходит на дно, жирно и густо чавкая. «Хм, — спрашиваю невольно, — позавчера выгребали?» Бросаю туда же и ножницы. Они производят короткое «бульк» — и все затихает. Только ангелы бьют крылами, взмывая в звездное небо, прочь от поднявшейся парной вони и долой из Нещадова. Если б не то, что они, Лиза и мой шофер, вновь повстречавшись, наедине там останутся, я бы вообще ни о чем не тревожилась, а так… Ну вот, черт подери, отчего я не продумала очередности! Поспешишь — людей насмешишь. И так всегда, выдержки не хватает, чтобы обмозговать все спокойно. Только теперь — без паники! Ничего, Глашу большой скоростью следом отправлю. Она мне верна. Как дырявый башмак, найденный на помойке. Но чем хороша — объяснять ничего не надо: гончей идет по следу, холуйский инстинкт подсказывает. Утро вечера мудренее. Завтра и потолкуем.
СюрпризНа заре меня будит Глаша, расталкивая в бока. «Глаш, ты что — очумела? Который сейчас час? Посмотри!» — «ЧП! — кричит Глаша. — У нас случилось ЧП!» — «Что-нибудь с Лизой?» — спрашиваю спросонья. «А я не однажды предупреждала, что вы ее балуете! — орет Глаша. — Вперед всех выставляете! Разговоры ведете! За стол один тащите! И вот вам мои поздравления — так-таки доигрались!» — «Да говори толком!» — прошу, а у самой сердце до горла подпрыгивает. «Удрала от вас ваша Лиза! Под прикрытием ночи, как вор! Может, чего и украла! Надо проверить! А у вас, если вам интересно, шкатулка с драгоценностями на виду прямо валяется, которые вы от покойницы матери унаследовали!» Глаша швыряет мне в морду тетрадный листок. «Вот, полюбуйтесь, удосужилась ваша избранница, записку оставила!» — «Да ты чего?!!!» — сажусь, обалдевшая, на постели. Почерк остался округлым — детским и ласковым. Подозреваю, что с тех давних пор Лиза никому не писала, а я ведь храню то, украденное у шофера, письмо, отосланное ему Лизаветой. Оно у меня в бутылке под бузиной за домом зарыто, как самое драгоценное. «Я ухожу, — пишет мне Лиза, — куда вы не узнаете. И Любу мою не ищите. Ее в Швейцарии больше нет, и в деньгах ваших она не нуждается (интересно, как Лиза сумела Любу „извлечь“, если Любоньку в пансионе, по шифру, только мне выдать могут?). Рук к ней впредь не тяните. Она моя, а не ваша дочь, что бы вам в вашем болезненном состоянии ни привиделось. Вы человек нездоровый и одинокий, вас даже жалко, но ничему, что живое, рядом с вами нет места. Как медицинский работник вам говорю, от вас надо держаться на расстоянии, иначе заморите, душу по капельке изопьете. Засели в своем больном мире и оттуда других внутрь тянете. Над собой управы не ищете, над людьми издеваетесь. Он вас не любил (жирно подчеркнуто), вы это знаете и простить мне не можете, готовы меня растоптать, но я вам не дамся. Мне еще Любоньку поднимать, а вы, теперь вам скажу, — бесплодная ведьма и, чтобы себя продлевать, вам нужно чужим горем питаться. Пребудьте лучше в своем и прощайте. Лиза».
Ого! Какая же это записка — целый трактат «об отношении искусства к действительности». Ничего себе медицинский работник! Отдаю Глаше листок, а сама думаю: сказать, что первый блин комом, нельзя. Не ком, а полная катастрофа — эксперимент с очевидностью провалился. Мало того, что он был искажен Лизиным страхом и моей нерешимостью, что уже не дает чистого результата, так теперь вообще непонятно — убила я ее все-таки или нет? Кем бы она ни была — химерой, дьяволом, человеком. Утопила ли я ее или Лиза сама потихонечку смылась, почуяв неладное? Когда написала она трактат — «до» или «после»? Нет, заранее, «до», не могла, Глаша бы непременно пронюхала и вместе с бумагой ее за волосы ко мне притащила. Тем более что одна из задач, перед нею поставленных: не выпускать Лизку из виду, следить и стеречь. Да, но Лизка и «после» никак не могла, если с вечерней звезды по уши в говне туда-сюда плавает! «Глашенька, — говорю, — ночью мне снилось, будто я любимую шаль в нужнике о гвоздь зацепила и ножницами угол обрезала…» — «Снилось? — воскликнула Глаша. — О Господи! Да вы явь от сна отличаете? Это та, змея, воспоминаниями заморочила! Все о нем вам рассказывала! Все в вас смешала — кто мертвый, а кто живой! А вы из доброты ее слушали и подначивали! Ну, теперь я вами займусь! Прохода вашим причудам не будет!» Из кармана передника она достает кусок отрезанной шали. «Илья гвоздь отодрал, а я обрывок взяла. Давайте и шаль, незаметно пришью, не выходит вас отучить дорогими вещами разбрасываться». Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Но Лизка-то где?! Куда, сука, делась?
КентаврМакс взял новую моду — исчезать по ночам. Все на покой, а он раз и слинял в неведомом направлении. Как вампир, возвращается до рассвета, и у меня на его счет нехорошие подозрения. Собственно, не подозрения, а уверенность: Максовы полночные променады совпали с загадочными убийствами, терроризирующими Нещадов. Первоначально подумали на ментов — а на кого же еще? Но вскоре заколебались. С одной стороны, логически рассуждая, все мало-мальские преступления в городе совершались ментами, чего никто уже не скрывал вследствие невозможности. Ментовские мздоимство и алчность до всего, что чужое, будь то деньги, любовь, жизнь, овеяны многочисленными легендами, под стать эпосам «Песнь о нибелунгах» или «Сказание о Гильгамеше». Вытрясли ли кого вверх ногами, по недоумию на пустой улице переехали, средь бела дня ради забавы взяли да пристрелили или в качестве назидания у городских ворот живьем закопали — это всегда они, вурдалаки законности, условно именующиеся в народе «стражами правопорядка».