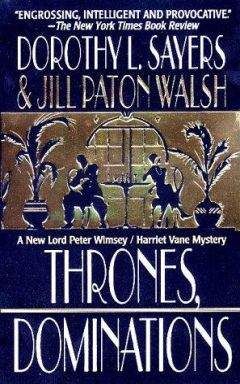Маргарет Мадзантини - Сияние
– Я поправлюсь?
– Нет.
– Значит, я умру?
Мы брели вдоль бамбуковой рощи ботанического сада. Ицуми в обычных тапочках, на плече – сумка с деревянными ромбами. Осторожно касаясь рукой листьев, чешуек коры, словно пытаясь слиться со стволом, Ицуми то исчезала, то снова возникала рядом со мной. Порой она оборачивалась, чтобы подождать меня, а потом как будто забывала, что я рядом. Ее кидало из стороны в сторону. Сначала все было хорошо, но потом она вдруг обрушивалась в пропасть. Столетний бамбук возвышался над нами, в его зарослях Ицуми поначалу казалась крошечной, но вдруг вырастала и словно становилась выше. Она гордо вздымала голову и казалась безмолвным и печальным гигантским стволом. Я шел с трудом и выбился из сил, а стволы бамбука становились все чаще и жестче. Высоченные сменялись низенькими и робкими, гибкими, но такими же острыми. Мне вдруг показалось, что я нахожусь посреди зарослей деревянных копий, что я животное, загнанное в ловушку. Ицуми не было видно. Я принялся звать ее, но она не отвечала. Я запаниковал. Мне стало страшно, что я больше ее не увижу. Она так и будет бродить меж шелушащихся стволов, скрестив руки и легонько касаясь пальцами тоненьких листьев, останется пленницей раскачивающегося на ветру лабиринта. Мне показалось, что я уже слышу, как ее душа звенит, отлетая куда-то далеко. Я перестал понимать, как мне выбраться из этого леса. И вдруг увидел скамейку и сидящую Ицуми.
– Ши, – сказала она.
– Что?
– Доктор сказала, что эта болезнь выявляется только по четырем критериям, по-японски «четыре» – «ши».
– Ну и что?
– Просто плохое слово. Ши – это смерть. Четыре – знак смерти. Эти слова произносятся одинаково.
С дерева упал лист и приземлился на моей голове.
– Это добрый знак?
– Да, он означает, что ты не будешь долго страдать.
С того вечера прошло ровно три года. Доктор Кхандра Нирал стала богиней Кали нашего дома. Мы поклонялись ей, переполненные трепетом и надеждой. Когда ее смена в больнице заканчивалась, она приезжала к нам, доставала из сумочки инструменты и лекарства, которые удалось купить через знакомых. Лечение стоило больших денег, а наших средств хватало только на то, чтобы оплачивать колледж для Ленни. Все остальное расплывалось перед глазами, точно в мутном свете тусклых уличных фонарей.
Время душило нас в волчьих объятиях. Я стал специалистом по этой редкой болезни. Мой книжный шкаф был набит книгами, брошюрами и медицинскими журналами, я читал научные статьи и даже купил огромный фармацевтический словарь. Когда у меня выдавалась свободная минутка, я пытался узнать что-то новое: у меня появилась возможность стать ближе к Ицуми, а заодно и бежать от реальности. Я прятался в кровоточащую раковину, чтобы забыть о собственных ранах.
Ицуми стала принимать адренокортикостероиды, и это помогло: красные пятна почти исчезли, она снова жила полной жизнью. Часто она не уделяла должного внимания своему здоровью, перенапрягалась, забывала выпить лекарства.
Можно сказать, нам повезло. Болезнь, точно волчица в холодную зиму, отступила и впала в спячку. Потекла прежняя спокойная жизнь, мы стали ближе, чем прежде.
Но предвидеть обострений мы не могли. Иногда Ицуми просыпалась посреди ночи и ее била дрожь. Оголодавшая волчица снова спускалась в долину. А я стоял с топором наготове. Пришлось опять прибегнуть к химиотерапии. Ицуми менялась на глазах. Она нервно бродила по дому, втягивала живот и сжимала ослабшие пальцы. Волчица поселилась у нее внутри, она выла и потихоньку терзала ее плоть. Ицуми гордо не сдавалась. Ее тело старалось соответствовать сильному и благородному духу.
Как оказалось, солнце – наш враг. Для волчицы оно было верным сообщником. Даже в дождливые дни Ицуми надевала широкую шляпу: боялась, что на нее попадет даже маленький солнечный лучик.
А потом наступала короткая передышка. Лицо Кхандры Нирал изумленно вытягивалось, она больше не появлялась каждое утро, чтобы поставить капельницу. Ицуми надевала плащ и терялась в уличной сутолоке.
Каждые выходные, вместо того чтобы развлекаться с друзьями, Ленни возвращалась домой. Ей нравилось сидеть в пижаме перед телевизором в обнимку с мамой, как в детстве. Когда мы уже свыклись с болезнью Ицуми, Ленни резко изменилась. Она не могла принять того, что на светлый дом ее детства пала черная тень, что он превратился в склад таблеток и склянок, шприцев и пузырьков с лекарствами. Она привыкла видеть мать сильной, и ей было странно, что теперь Ицуми постоянно нуждалась в помощи и внимании. Ленни чувствовала, что перестала быть главной. Она постоянно упрекала мать. У нее была уникальная память, и помнила она только плохое. Ленни нападала на раненое животное и терзала его.
Я делал все, что мог, чтобы она приезжала в те дни, когда Ицуми становилось лучше. Старался, чтобы, пока она у нас, жизнь проходила весело и беззаботно. Но Ленни была умна и очень скоро раскусила мой незамысловатый обман. Переступая порог нашего дома, она чувствовала запах голгофы и хмурилась. Ицуми тоже старалась скрасить наши дни вместе: готовила мясную запеканку, пекла шоколадные кексы. Но Ленни не могла не чувствовать, что гора дала трещину. Ее мать, ее Йомагами, направлялась в царство теней и злых духов, живущих в недрах земли. Ицуми стала с ней строже, точно старый наставник, у которого не осталось времени, чтобы поверить секреты лучшему ученику. Она наступала Ленни на пятки, поторапливала ее.
– Давай испечем торт.
Они надевали фартуки и закрывались на кухне, гремели банками, кастрюлями, пирожными формами и венчиками, ломали ванильные стручки, толкли чернику. Ленни включала магнитофон, ставила тяжелый металл типа «Breaking the Law», а Ицуми стояла выпрямив спину, точно образцовый дзен-мастер, и жала на кнопку миксера. Порой мне казалось, что все как раньше, в далеком счастливом прошлом. Но вот я выходил с собакой, а когда возвращался, слышал дикие крики обезумевшей Ленни. Я брал щетку и совок и выметал муку и сахарную пудру. Ленни кричала, что повесится.
– Я вырастила чудовище.
– Ленни не может смириться с тем, что ты больна.
Лицо Ицуми покрылось множеством мелких морщинок и напоминало тончайшее потрескавшееся стекло. Она плакала молча, ни разу не вздрогнув.
– Да, я больна.
Через несколько секунд появлялась Ленни, в коротеньком платье, с сильно подведенными глазами, хлопала дверью и заявляла, что бросится в Темзу.
Я садился в машину и медленно катил по улицам, надеясь ее разыскать. Я нагибался и смотрел в окно, обшаривал взглядом скамейки и тротуары. Проезжал мимо клубов. А заодно мысленно составлял карту нового города, отмечая на ней популярные у молодежи места, угадывая, что именно нравится таким, как Ленни. Старых добрых панков, каннибалов, цепи и котелки сменили гранжеры в кедах и похожие на индейцев типы с дредами, которые бродили по ночному городу и запрыгивали на доски, точно темные волны, накатывающие на берег.
Ленни, робкий ночной мотылек, одиноко шла по тротуару.
– Привет, милая.
Казалось, она не злится, но и не рада моему появлению. Я медленно подъехал к ней и притормозил. Я ехал со скоростью пешехода, выставив локоть в окно. Ленни казалась мне самой прекрасной девушкой на земле, и, хотя она изменилась и стала язвительна и груба, я не мог забыть той нежности и мудрости, с какими она когда-то впустила меня в свою жизнь, и ту любовь, которой она меня научила. Я ничего от нее не требовал, просто хотел быть рядом, сопереживать ее растерянности и упрямству. Я знал, что любовь питается скудной нежданной пищей, которую тебе подают, когда ты этого не ждешь, и так, стиснув зубы от тоски, ты выживаешь.
Я был счастлив и гордился тем, что мог сопровождать Ленни в такие минуты. Мне нравилось угадывать, пойдет она через мост или свернет на Чаринг-кросс, я пытался угадать ее маршрут, увидеть ее изнутри, взглянуть на город ее глазами. Мне казалось, что я сопровождаю ее по совсем другому, куда более длинному пути.
Она выбирала улицы, где можно проехать на автомобиле; если же движение было односторонним, она останавливалась на перекрестке, как будто поджидала меня. Мое присутствие не было ей в тягость, она все еще была моей королевой джунглей, крохотной мартышкой. Наконец она останавливалась, снимала туфлю и принималась растирать ступню. Потом резко разворачивалась и, словно ничего не произошло, открывала дверцу машины и усаживалась на сиденье рядом со мной.
Ее волосы распушились, в полной нижней губе красовалось колечко, небесно-голубые восточные глаза были ярко подведены каджалом. Я продолжал думать о джунглях и неведомом будущем.
– Знаешь, пап…
И даже если после этих слов спокойно могли последовать такие: «Ты полное дерьмо, ты лузер и тряпка», это было уже не важно, мне хватало этого «пап». Я поддакивал ей, соглашался tout court[32]. Мое подавленное гомосексуальное эго шевелилось на дне души и отчаянно бунтовало.