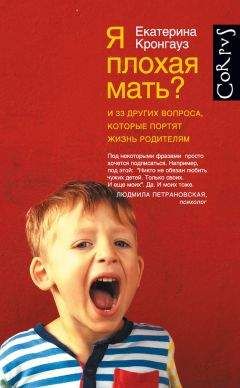Наоми Суэнага - СТОИЕНОВАЯ ПЕВИЧКА, или райский ангел
И вот сегодня эти драгоценные для меня песни звучат со сцены, на которой меня нет. Какая чудовищная несправедливость! Кахо Дзёдзима… Я ничуть не удивлюсь, если её постигнет наказание свыше. Бог музыки, прошу тебя, лиши её способности петь!
Губы Кахо, дряблые, как треска с просроченной датой хранения, противно кривятся, исторгая созданные для одной меня звуки. Её белое платье сверкает в свете софитов, окрашиваясь то в красный, то в синий цвет. Кружащаяся по сцене Кахо… Её смеющиеся губы… Саксофонист, стоя аккомпанирующий ей на рояле…
На прошлой неделе я получила удивительное письмо под названием «Нелепое признание в любви». Его написал шестидесятилетний аранжировщик, г-н Иватани. И сейчас, охваченная гневом и отчаянием, я мысленно перечитывала это письмо.
Г-же Ринке Кадзуки Нелепое признание в любви
Письмо моё и вправду выглядит нелепо, и всё же я прошу Вас его прочесть.
В последнее время распространились мерзкие слухи по поводу того, что я бесплатно пишу для Вас аранжировки, и меня преследует чувство вины перед Вами. Что ж, я действительно Вас люблю. Точнее говоря, испытываю сердечную склонность к Вам как к человеку, влюблённому в музыку.
Как сверкают Ваши глаза, когда мы с Вами обсуждаем ту или иную аранжировку! С первой же нашей встречи я решил для себя: с этой женщины я не могу брать никакой платы! Только прошу Вас, не думайте после этого моего письма, будто Вы хоть чем-нибудь мне обязаны. Я счастлив уже тем, что могу время от времени видеть Вас и говорить с Вами о музыке.
Извините, что я взял на себя смелость Вам написать, но всё это — чистая правда. Прочитав моё письмо, бросьте его в мусорное ведро.
К. ИВАТАНИ
23.11
Когда-то г-н Иватани служил охранником и по совместительству писал аранжировки, а теперь по ночам он работает на каком-то заводе, производящем катушки для трансформаторов. Зарплата у него совсем мизерная, но он ничуть не скорбит по этому поводу и всё свободное время отдаёт музыке. Устав от такой жизни, жена, с которой они прожили много лет, деля горести и радости, в конце концов махнула на него рукой и ушла из дома.
Когда мы встречаемся с ним в кафе, чтобы обсудить очередную аранжировку, и он кладёт руки на стол, я невольно задерживаю взгляд на его обезображенных работой пальцах с распухшими нижними фалангами. Каждый раз, когда я вспоминаю эти заскорузлые, испачканные чернилами руки, сердце у меня сжимается от боли. От гордой, величавой боли, знакомой лишь тем, кто нечаянно сунул себе в карман сладкие плоды с горькой шершавой кожицей, в обыденной речи именуемые «песнями» или «музыкой»…
Вот и сегодня тайные думы мои рассеял вечерний сумрак…
Очередной несбывшийся сон…
Песня «Пылает любовь, как осенние листья» с её дивной мелодией хороша лишь тогда, когда её проникновенно, с чувством исполняет хрупкая женщина, а не эта дылда с надутой физиономией. Чаша моего терпения переполнилась. Пора прекращать это безобразие!
Я решительно поднялась на сцену и выхватила у Кахо микрофон. Оркестранты явно струхнули. «Атас! Сейчас Ринка нам устроит!» — было написано на их лицах. Кахо тоже растерялась. «Разбойники» ничего не заметили: они попросту не слушали завываний новоиспечённой исполнительницы энка.
Приезжай за мной, ненаглядный!
я живу одной лишь любовью,
хоть и знаю, что будущего у нас нет… —
продолжила я вместо неё.
Рассвирепев, Кахо протянула руку и вырвала у меня микрофон, но я снова завладела им. Между нами завязалась потасовка. В зале поднялся шум, кое-где послышались смешки. Официанты пока ещё не реагировали на происходящее на сцене, — они были заняты обслуживанием гостей, ведь в девять часов здесь самый наплыв посетителей.
— Отдай немедленно мой микрофон!
— Молчи, воровка!
Впрочем, если тебе так хочется, получай! — решила я и швырнула микрофон ей под ноги. Он покатился по сцене, наполняя зал оглушительной какофонией.
Гости и хостессы, недовольно морщась, поспешили заткнуть уши. Тут даже официанты наконец прочухались. «Эй, кто-нибудь, скорее на сцену! — кричали они друг другу. — Куда подевался ведущий, чёрт бы его побрал?!»
— Что, Ринка, завидки берут? — в Кахо живо проснулась прежняя халда. Уперев руки в боки, она окинула меня победоносным взглядом и осклабилась. — Видать, злишься, что я тебя обскакала!
Эк она возгордилась от своего дебюта! Нет, милочка, заблуждаешься!
— Как бы не так! Держи карман шире, шалаболка несчастная! — как всегда в порыве ярости, я невольно соскочила на родной диалект.
Спасайся, кто может! Ложись! Сейчас я её отделаю!
Сжав кулаки, я с ненавистью двинулась на неё. Кахо, не дрогнув, по-прежнему стояла с гордым видом, глядя на меня сверху вниз. Её внушительная фигура сразу же вернула мне ощущение реальности. Где уж мне, невеличке, сражаться против этой каланчи, в которой сто семьдесят сантиметров росту! Нет, в честном поединке я её не одолею. Что же делать? У меня мелко задрожали руки. Как когда-то у Кэнд-зиро, приготовившегося дать отпор богатырю Дайки…
— Ну же, давай! Отвесь ей пару ласковых! — неслось из зала.
— Вот будет спектакль!
«Разбойники» расшумелись вовсю. Кто-то из них вскочил с места и бросился к сцене. Музыканты стояли на своих местах с инструментами в руках и делали вид, что происходящее их не касается, но глаза у них предательски налились кровью. В предвкушении побоища эти гаврики просто мурлыкали от удовольствия.
В этот самый момент на сцену вбежал запыхавшийся конферансье. Понимая, что сейчас он выведет меня вон под белы руки, я решила его опередить.
Подняв с полу микрофон, я неожиданно для всех обратилась к залу:
— Господа, приношу вам глубокие извинения за имевший место инцидент.
Напряжённые складки на лице конферансье тут же расправились. Кахо смерила меня полным презрения взглядом и насмешливо повела плечами. Повернувшись к залу, я склонила голову чуть ли не до земли.
— Что, выходит, спектакль отменяется?
— Эх ты, не могла ей вмазать…
Горящие взоры «разбойников» тут же разочарованно потухли.
— Прошу меня извинить, — обратилась я затем к Кахо и отвесила ей поклон. Глаза мои невольно задержались на её ногах, обутых в концертные туфли на высоких, сантиметров в девять, каблуках. Я усмехнулась. Не думайте, что сейчас я подписала акт о капитуляции. Это была всего лишь тактическая уловка!
Издав воинственный клич, я легонько толкнула её. Мгновенно потеряв равновесие, Кахо качнулась и, проделав несколько потешных танцевальных па наподобие куклы-марионетки, стала с воплями неудержимо пятиться назад. Послышался страшный грохот. Рухнув на пол между электроорганом и гитарой, она увлекла за собой парочку оркестрантов. Так им и надо!
«Разбойники» тотчас оживились:
— Вот это да! Молодец!
— Знай наших!
— Не робей, малявка!
Поднявшись на ноги, Кахо с перекошенным от злобы лицом, пошатываясь, двинулась на меня. Вспомнив о том, что на мне тоже босоножки на высоких шпильках, я спешно сбросила их.
Не дав мне возможности изготовиться к обороне, без всякого предупреждения, она с остервенелым видом поддала мне коленом в живот. Но поскольку, в отличие от меня им не пришло в голову разуться, удар получился не особенно сильным. К тому же благодаря энка я неплохо разработала брюшной пресс. Конечно, в первый момент меня пронзила жуткая, до тошноты, боль, но мне удалось быстро прийти в себя и подготовиться к следующей схватке. На сей раз я решила прибегнуть к иному манёвру: подступившись к противнице, я изловчилась, обхватила её колени руками и изо всех сил потянула на себя.
При виде того, как Кахо в очередной раз с диким воплем неуклюже опрокинулась на спину, «разбойники» принялись гоготать, совсем как мальчишки в начальной школе.
— Классная рубаловка! Хо-хо-хо!
— Давай, давай, всыпь ей ещё!
Мало того, они начали изо всех сил колотить по полу ногами, так, что всё здание кабаре, казалось, сотрясалось от их гулкого топота. Реакция зала ещё больше подзадорила меня.
Но как только Кахо поднялась на ноги, конферансье подскочил к ней и быстренько увёл в гримёрную.
И сразу же на сцену вышел Юмэкава, импровизируя в духе Юдзиро Исихары:
— Вот тебе хук[40]! Вот тебе в брюхо! И ещё раз в брюхо! А теперь в челюсть! Брось мозолить мне глаза! Отвечаю двумя ударами на один! — в этот миг, словно всё это было спланировано заранее, Юмэкаву поймал тонкий луч прожектора. Он улыбнулся и произнёс знаменитую реплику: — Эй, не тяни резину! Ну же, атакуй!
В зале наступила мёртвая тишина. Повернувшись к оркестру, Юмэкава крикнул в микрофон: