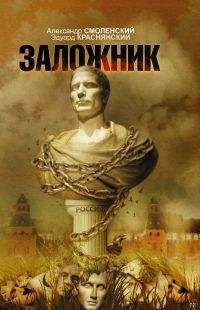Эйтан Финкельштейн - Пастухи фараона
— А скажи, Володенька, куда теперь семейство?
— То есть как — куда? — от неожиданности Ленин отодвинул чашку. — Ты что, не понимаешь, ликвидировать нужно Ро-ма-но-вых. Всех Романовых.
— Как — и детей?
Ленин откинулся на диване, на лице появилась брезгливая гримаса.
— Наденька, это же обывательский подход. Мы обязаны руководствоваться логикой революции. Подумай сама, если мы ликвидируем Николая Романова, но оставим его наследников, то тем самым окажем услугу контрреволюции. Неоценимую услугу. Ведь бывший царь в самом-то деле никому не нужен. Даже ярым монархистам. Они только и мечтают: мы Николая расстреляем, а они объявят его святым мучеником, знаменем контрреволюции. Царем же станет больной наследник, правителем при котором назначат того же Колчака! Нет, Наденька, мы должны, мы обязаны вырвать этот змеиный род с корнем, чтобы никогда больше в России не возникла угроза реставрации.
Ленин не стал допивать чай, тяжело поднялся с дивана.
— Куда же ты, Володенька, отдохни хоть полчасика, чай допей.
— Не могу, Наденька, с минуты на минуту появится Лев Давидович, надо что-то срочно предпринять на Восточном фронте.
Вытаскивать тела убитых комендант не стал. Не потому, что чурался черной работы, — был страшно зол. Много раз предупреждал: стрелять после того, как он огласит решение Исполкома. Объяснил: «Мы не убийцы, мы исполняем волю уральских рабочих, вершим революционное правосудие. Всем понятно?» Дружно ответили: «Понятно». А когда дошло до дела, этот тип Ермаков, партизан с наглой рожей, выхватил маузер и давай палить еще до того, как он, комендант, кончил читать. Сволочь. Опозорил.
Когда тела вынесли и уложили в грузовик, комендант вернулся в дом, чтобы в последний раз проверить, не забыли ли чего. Он внимательно осмотрел подвал, потом поднялся наверх, проверил спальни, угловую комнату, гостиную и вышел в коридор. Все было в порядке, он уже направлялся к выходу, как неожиданно увидел в зеркале кривой крест — свастику. Повернулся. Крест был нарисован химическим карандашом на глянцевом косяке оконного проема. Комендант еще раз взглянул в зеркало: крестов появилось бесчисленное множество: они уменьшались в размере и тянулись цепочкой куда-то в бесконечность.
«Что бы это могло значить?» — подумал комендант, но тут же забыл о свастике. Задавался рассвет, нужно было срочно выезжать в Верх-Исетск.
25. Голубая тень
На свет Абраша появился слабым — весу в нем было меньше двух кило. Ная Израилевна молила Бога, чтоб выжил. Ее первый ребенок родился мертвым, двое других не дожили до года. Потом родилась девочка. Пухленькая, крепкая. Назвали по бабушке Глафире, Фирою. Следующий ребенок снова умер, она долго не рожала, и уже совсем было перестала надеяться, как неожиданно забеременела и разрешилась мальчиком. Случилось это 21 декабря 1881 года, ровно через месяц после смерти свекра, Авраама Борисовича. Молилась за сына Ная Израилевна усердно, мальчик выжил и был назван в честь деда. Правда, записали его на русский манер, Абрамом.
Рос Абраша капризным и непоседливым, хлопот Нае Израилевне доставлял не в пример Фире. Когда же подрос, отдали его учиться сначала меламеду, потом в русскую школу. Ученье давалось Абраше легко, но учился он плохо; по-началу увлекался, успевал, потом начинал лениться, заданий не выполнял, частенько сбегал с уроков.
Неуспехи сына в учебе Бориса Абрамовича не особенно огорчали, за пропуски занятий он его не ругал: «Раз не пошел в школу, пойдем в мастерскую». Этого-то Абраша и добивался — очень уж ему хотелось попасть в царство чудес, где напольные часы свысока поглядывали на каминные, а вычурные фигурки на каминных легкомысленно подмигивали строгим каретным. А потом все они начинали звонить! Сначала басили напольные, потом баритоном включались каминные, и уже в конце начинали тоненько дребезжать каретные.
Отец внимательно слушал перезвон, затем подводил стрелки — на одних часах вперед, на других назад — и усаживался за верстак. Затаив дыхание, Абраша смотрел, как отец надевает лупу, подхватывает пинцетом какую-то деталь, внимательно ее рассматривает и что-то бормочет себе под нос. Абраша знал, чем кончится это колдовство: в какой-то момент спина отца распрямится, губы вытянутся в улыбку.
— Акс! Ну конечно, акс[81]. Уронили и ось сломали. Видишь, как баланс ходит?
Абраша кивал, будто все понял.
Через какое-то время он и в самом деле стал понимать, что мастерит отец, а потом и сам научился ставить на место стрелки, чистить волосок, выпрямлять спусковое колесо.
Незаметно подошло совершеннолетие; бар-мицву устроили в синагоге. Здесь Абраша осрамился: заученный текст произнести толком не сумел[82]: запинался, пропустил целый кусок. Ребе просто кипел от негодования. Но отец не рассердился; по дороге домой сказал добродушно: «Ученый из тебя не получится — это ясно. С завтрашнего дня сядешь со мной делу учиться. Будешь стараться — станешь подмастерьем, а придет время — займешь мое место, как я когда-то сел на место светлой памяти отца моего и твоего деда».
Часовых дел мастером Абраша не стал.
Когда он освоил ремесло и сел работать подмастерьем, ему стало скучно. Ладно еще, если в ремонт приносили какие-то замысловатые часы — каминные или настенные. Тогда он возился с удовольствием. Но, когда приходилось изо дня в день выполнять одни и те же операции — разбирать и промывать, он начинал хандрить, жаловался, увиливал от работы под любым предлогом. Отец возмущался, обильно угощал сына подзатыльниками. Не помогало.
После очередной выволочки Борис Авраамович сдался.
— Ну, хорошо, не хочешь быть часовщиком, скажи, кем хочешь?
— Железнодорожником.
Абраше было 14 лет, когда в город провели «железку» — соединили его железнодорожной веткой с Великой Сибирской магистралью. На всю жизнь запомнил он, как вместе с толпой бежал за огромным черным чудищем, которое медленно ползло в сторону порта. Горячий пар со свистом вырывался из-под колес, из пузатой трубы летели искры. Паровоз тащил за собой вагончик с дровами и тамбур, в котором сгрудились важные господа в мундирах.
У каждого времени свои герои. Тогда героями были путейцы: начальник станции в строгом мундире, кондуктор со свистком и разноцветными флажками, контролер с толстой сумкой через плечо. Но главным героем был, конечно же, машинист. Какой мальчишка не мечтал увидеть себя в кабине машиниста!
Мечтал об этом и коренастый крепыш Абраша. Он все чаще удирал в город и часами поджидал прибытия паровоза. Кончилось тем, что Абраша сбежал из дома. Тайком забрался на отходящий паровоз и упросил взять его помощником кочегара. Его приняли, положили в обязанность колоть дрова, таскать воду, делать все, что прикажет кочегар или машинист.
С непривычки было трудно: на руках вздулись мозоли, глаза распухли от дыма, в голове непрерывно гудело. Но он старался изо всех сил и скоро начал привыкать и к тяжелой работе, и к кочевой жизни. И уж совсем было привык, да случилось непредвиденное. Как-то паровоз встал на ремонт в Нижнеудинске. Абраша сделал все дела и отпросился у кочегара погулять по городу. Купив горячих бубликов, он расхаживал по улицам, наслаждаясь свежим воздухом и возможностью немного побездельничать. Неожиданно сзади кто-то крепко схватил его за руку.
— Ты кто такой? Откуда здесь взялся? — городовой в длиннополой шинели и с шашкой на боку пристально всматривался в лицо Абраши.
— Со станции я. С паровоза. Помощник кочегара.
— Какой еще помощник кочегара? Бумаги у тебя есть? Давай-ка, жидок, в участок, там разберемся.
Тут все и выяснилось.
— Мещанин, значит? Иудейского вероисповедания? А знаешь ли ты, что тебе здесь находиться совсем не положено? Ты что, про новые правила не слыхал?
Абраша и понятия не имел, что по новым правилам жить ему в Сибири можно, но не повсеместно, а только там, где приписан его отец. Беглеца под конвоем вернули домой и обязали отца уплатить штраф.
После такого невезенья пришлось снова сесть за часовой верстак. Но через полгода Абраша нанялся в пожарную команду. Потом работал в цирке, потом — в порту. Дома появлялся редко, на все уговоры «заняться делом» огрызался или отшучивался. Так он и проболтался до двадцати, когда забрали его в солдаты.
Служба давалась Абраше нелегко, за вредный характер да за свое еврейство натерпелся он немало. Особенно свирепствовал ротный, иначе, как «иудами» или «пейсатыми» еврейских солдат не называл. Да и другие солдаты измывались над еврейскими товарищами, как только умели. Правда, Абраша часто и сам единоверцев стыдился: присланные в Сибирский полк из далеких украинских местечек, они и по-русски говорили едва-едва, и слабосильны были, и все время на что-то жаловались. А уж отлынивать отдела — первые были мастера. Но и единоверцы Абрашу за своего не принимали: молитва вместе, остальное врозь.