Меир Шалев - Фонтанелла
Он поднял ее на воздух, поставил на бетонную стенку коровьей кормушки, повернулся к ней спиной и сказал: «На меня!» Батия прыгнула ему на спину и крикнула: «Пошел!» — но Апупа проворчал:
— Мы сейчас не играем, Батинька, — и открыл ворота. — Показывай куда.
— Мы пойдем туда поесть мороженого?
— Нет, — сказал Апупа, — сейчас мы пойдем туда посмотреть, говоришь ли ты правду. И если ты обманываешь, плохи твои дела!
Он галопом спустился по склону холма.
— Показывай дорогу, — повторил он.
Хотя она была его дочь и грудей у нее еще не было, чтобы обжечь его спину, но ее тело было до жути похоже на тело матери, и памятная указующая рука Амумы была до жути похожа на маленькую ручку, что сейчас указывала ему путь. Однако, в отличие от матери, Батия не прижималась и не засыпала у него на плече, а вонзала пятки ему в бока и непрерывно пришпоривала.
Один Бог знает, как они одолели болота. Юбер-аллес не увидела ни одного из тех знаков, которые оставила для себя, но каждый раз, когда говорила «направо», или «налево», или «прямо», это было правильно, и, когда несколько часов спустя Апупа сказал: «Мне обжигает ноги», она поняла, что они дошли до зеленого поля турецкого горошка.
Низкие облака заволокли небо, и сквозь рассеянную в воздухе муть неясно проступала белизна хорошо знакомых Апупе каменных домов немецкой деревни, куда он раньше приходил по главной дороге, а не через болота. Той деревни, с историей которой предстояло сплестись истории его семьи. Они обогнули дом с двумя сторожевыми псами, и Апупа убедился, что его дочь говорит правду.
* * *У кузнеца Шульмана был подмастерье, который никогда не помнил, куда он положил свои инструменты.
— Милостиво поступил с ним Господь, благословенно имя Его, — говорил Шульман, — когда положил его яйца в мошонку, иначе и они бы потерялись.
Арон, стесняясь задавать вопросы, поинтересовался у Апупы, что Шульман имел в виду, и Апупа сказал ему, что мастер должен находить любой инструмент с закрытыми глазами, «как мужчина находит сам знаешь что».
Спустя несколько дней, когда Апупа тайком заглянул в записную книжку Арона, он нашел там не только это объяснение, но также замечания по поводу плохого развода зубцов ножовки у Меламеда и по поводу кузнечных мехов Шульмана, которые, из-за ограниченного хода их педали и излишнего изгиба на пути потока, хуже подавали воздух и требовали больше усилия, а также по поводу сапожной колодки Гольдмана, которая вынуждала сапожника стучать под неэффективным углом. В ту пору, не имея сегодняшнего богатого опыта, Арон еще не мог это сформулировать, но уже чувствовал, что рабочий инструмент должен быть продолжением руки.
Апупа прочел все это и исполнился радости. Он понял, что ему вскоре придется искать для мальчика более серьезных учителей. И действительно, через несколько недель Гольдман, Шульман и Меламед поднялись во «Двор Йофе» и сказали Апупе, что ему лучше отдать своего будущего зятя к немецкому кузнецу в Вальдхайме. Не то чтобы он им надоел, наоборот, но там он сможет получить больше, чем они могут ему дать.
И вот так тот осел, что когда-то был кудрявым осленком, потом почтовым ослом, а потом разносчиком мороженого, удостоился еще одной должности. Раз в неделю вешал ему Апупа на шею кожаный кошелек с несколькими монетами, сажал Арона ему на шею и посылал к немцам учиться ремеслу. Через два дня осел возвращал Жениха в деревню и привозил вместе с ним коробку нерастаявшего мороженого. Арон был счастлив. В Вальдхайме были порядок и чистота, настоящие плуги, сбруи и машины, а также рабочие и земледельцы, которые выглядели и вели себя, как настоящие мастера своего дела, а не «артисты в роли пионеров-первопроходцев» в театре «Габима»[47], как называл Гирш Ландау «нижних» Шустеров, вызывая этим громкий смех Апупы.
Тут Жених увидел также первый и единственный во всей Стране токарный станок с ножным приводом, придуманный Готхильфом Вагнером, и даже сподобился увидеть самого Вагнера. Тот приехал в Вальдхайм на машине, и его встречала целая делегация в составе мэра, священника и главы соседнего немецкого поселения по имени Бейт-Лехем[48]. Жених пришел в такой восторг, что вместе с немцами, работавшими в кузнице, вытянулся при виде гостя и даже поклонился ему в точности так, как кланяются немцы, чем удивил не только всех присутствующих, но также и самого себя.
Он и поныне вспоминает тот день с тем же волнением, но уже со смешанными чувствами и бурей в душе. Потому что, с одной стороны, Готхильф Вагнер был непревзойденным специалистом, но, с другой стороны, он ненавидел евреев и во время беспорядков 1920-х годов[49] даже учил арабов готовить мины и бомбы. И когда, много лет спустя, уже по окончании Второй мировой войны, люди Пальмаха устроили ему засаду на дороге, остановили его машину и хладнокровно убили, Жених несколько дней ходил как безумный, то вздыхая: «Он был гений…» — то бросая: «Так ему и надо!» — и всё это на одном дыхании. А когда он вдобавок узнал, что на маузере нападавших был установлен специальный глушитель его, Жениха, собственной выделки, у него даже вырвался крик.
Но в тот день, когда он, еще мальчиком-подмастерьем, впервые увидел Вагнера, Жених разволновался, как невеста под хупой, и семейная легенда — то бишь всё та же Рахель — рассказывает, что от большого волнения он даже споткнулся о железную палку и раздробил себе лодыжку. Однако, по правде говоря, он сломал себе лодыжку без всякой связи с Вагнером, и не в Вальдхайме, а у нас во «Дворе Йофе», и не от большого волнения, а потому, что споткнулся о железный прут, который кто-то — Апупа, конечно, — оставил валяться на земле.
— У немцев, — сказал мне сам Жених много лет спустя, — такого бы не случилось. Потому что у немцев, — объяснил он, — каждая вещь была на своем месте. — И рассказал, что в средневековой Германии каждый подмастерье кузнеца носил большую серьгу. И эта серьга была для него не только предметом гордости, но также источником больших неприятностей, потому что стоило подмастерью что-нибудь испортить или проштрафиться, как хозяин вырывал у него эту серьгу и выгонял из кузницы с порванным ухом. — Так ты сам скажи мне, Михаэль, такие оставят железный прут валяться на земле?
Перелом, вначале казавшийся простым, из тех, которые у всех детей, как правило, легко зарастали, в случае Жениха осложнился из-за того, что тель-авивский доктор, «большой специалист», желая показать свое превосходство над нашим деревенским доктором Гаммером, сумел убедить Гирша и Сару, что ногу нужно снова сломать, чтобы потом заново срастить ее должным образом, и всё это вместе привело к тому, что Арон начал хромать. Сначала обычной хромотой, заметной лишь утром, когда суставы еще затекли и затвердели с ночи, и вечером, когда они болят от усталости, затем хромать по-настоящему, и, в конце концов, он стал тем, кого моя мать, оглашая инвентарный список наших семейных страданий и подвигов, неизменно именовала «тянущий ногу».
— Один мой зять убит, муж потерял руку, сын был ранен, брат его жены погиб, другой зять тянет ногу… — так она с гордостью говорит своим «гостям» за стаканом морковного сока, искусно избегая уточнять обстоятельства ранения Жениха — пусть гости думают, что и он был ранен на войне, — и стараясь не вдаваться в обстоятельства ранения ее сына (меня, конечно), который по такому торжественному поводу убил одного из товарищей по части.
«Боль с болью сложилась», как говорят у нас в семье о сильных болях. Хромота не только замедлила рост Жениха, но и заставила его замкнуться в себе, так что он теперь часами сидел один и все это время чертил, считал и раздумывал. Отныне он начал свой собственный Великий Поход, но не с юга на север, а от юности к зрелости, а оттуда к старости, притом не с одной женщиной на спине, а с целым семейством сразу, — шел, не отклоняясь ни влево, ни вправо, заботясь, обеспечивая, выполняя свои обязательства, возмущаясь, снова и снова оплакивая «те времена», снова и снова повторяя: «Не для того воевали мы в Войне за независимость, не для того учили новых иммигрантов, чтобы так выглядело теперь наше государство», — снова и снова восклицая: «В этой стране скоро случится страшное несчастье!»
Уже в больнице, закованный в гипсовый корсет, охвативший половину его тела, он придумал такое автоматическое корыто, которое животные смогут включать сами, нажимая на него своим носом. В двенадцать лет он спроектировал и построил модель совершенно нового плуга — на пружинах, которые поднимают и проносят лемех над камнями и булыжниками, чтобы он не застрял и не сломался, и с таким узким и легким трубчатым каркасом, что одной лошади было достаточно, чтобы пахать на каменистых склонах. А в тринадцать лет изобрел механический домкрат, который одним перебросом рукоятки переводился с подъема на перемещение и был так прост, что казался не серьезной технической новинкой, а каким-то удивительным фокусом.
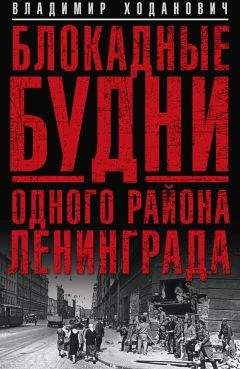

![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/uploads/posts/books/142120/142120.jpg)
