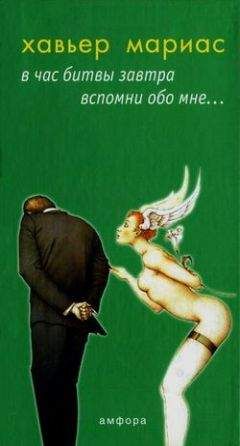Берта Исла - Мариас Хавьер
– Никогда прежде не слышал про таких, дорогая Берта. – И даже не спросил, почему я ими интересуюсь.
“До чего удобно пребывать в неведении, и, наверное, это вообще наше естественное состояние”, – думала я в те дни и недели, пока терпеливо дожидалась, чтобы Томас подал признаки жизни или без предупреждения нагрянул в Мадрид. Каждый раз, слыша шаги на лестнице или шум лифта, я без всяких на то оснований надеялась, что он решил не звонить по телефону, а вот так сразу приехать, чтобы побыстрее увидеть меня, чтобы увидеть нашего сына. Кто знает, а вдруг он переполошился, услышав от Рересби о моей тревоге, и рванул сюда прямо из Берлина. О том, о чем нам не рассказывают, мы ничего и не знаем, как, впрочем, и о том, о чем рассказывают, да, и о чем рассказывают тоже. Мало того, мы склонны верить, что нам говорят правду, и не слишком вдаваться в подробности, не утруждать себя сомнениями, иначе жизнь стала бы невыносимой, да и с чего бы людям врать про свои имена, свою работу, свою профессию, свое происхождение, свои вкусы и привычки, ведь обычно мы без всякой задней мысли обмениваемся кучей информации, даже если никто не проявляет особого интереса к тому, кто мы такие, что делаем и как идут у нас дела, – но почти каждый из нас рассказывает о себе куда больше, чем следует, или еще того хуже: мы навязываем другим факты и сведения, до которых им нет никакого дела, почему-то решив, что это всем интересно. А с чего бы кто-то стал испытывать интерес ко мне, к тебе, к нему, ведь на самом деле мало кто будет переживать, если мы вдруг исчезнем, мало у кого это вызовет какие-либо вопросы. “Да, непонятно, что стало с той женщиной. У нее был маленький ребенок, и она жила какое-то время вон в том доме. Муж появлялся лишь время от времени, а чаще где-то пропадал, но сама она жила здесь постоянно. Небось переехала – одна или вместе с ним, чего не знаю, того не знаю. Я бы не удивилась, если бы они развелись, она выглядела немного одинокой, предоставленной самой себе, но, когда он приезжал, сразу оживала. В любом случае ребенка она забрала с собой, обычно бывает именно так”. Человек, как правило, верит тому, что ему говорят, и это естественно, однако Томас может оказаться не тем, кем я его, по его же рассказам, считаю, может оказаться не там, куда, по его же рассказам, уехал; не существует людей, чьи имена я запомнила когда-то с его слов, в Форин-офисе нет Дандеса, Юра и Монтгомери, а вот Рересби существует, хотя попробуй проверь, правду ли он мне наплел; поэтому я не знаю, в Западной или Восточной Германии находится Томас, или не там и не там, или он находится в Белфасте, или еще где-нибудь. В ирландском посольстве никто никогда не видел Кинделанов, а потому их никто не переводил на работу ни в Анкару, ни в Рим, ни в Турин – все это выдумки; и звать их, надо думать, вовсе не О’Риада, не О’Рейди, не Руис Кинделан, не Мигель и не Мэри Кейт. Они выбрали себе такие имена из-за звучности и известности – потому что их носили музыкант, которого я не знаю, и франкистский генерал-авиатор. Она, наверное, действительно была из Ирландии или Северной Ирландии, возможно, была членом ИРА [19], удивительно только, что так хорошо говорила по-испански, хотя у этой организации имеются пособники и сторонники во многих местах и особенно в католических странах, где до сих пор процветает фанатизм, а моя страна все еще остается такой. А он?
Может быть, он член ЭТА [20] или близок к ней, ведь обе группировки, как известно, поддерживают контакты и помогают друг другу, но чтобы член ЭТА прекрасно владел английским – таких мало, если вообще найдется хоть один, а может, он и вправду был билингвом, наполовину баском, наполовину ирландцем. Или священником. Церковь много сделала для создания, поддержки, развития и безнаказанной деятельности этих террористических организаций. То есть он человек опытный и подготовленный должным образом. Или он наполовину американец: из Соединенных Штатов посылали для ИРА много денег.
Как удобно пребывать в неведении, как удобно ходить вслепую, как удобно быть обманутым, не говоря уж о том, что очень удобно врать, ведь это по силам любому дураку; занятно, но лгуны обычно считают себя умными и ловкими, хотя особой ловкости тут не требуется. То, о чем нам рассказывают, может существовать или нет, может быть чем-то исключительно важным или полной ерундой, совсем невинным или крайне опасным, может испортить нам жизнь или никак ее не затронуть. Мы способны долго пребывать в заблуждении, веря, будто все в нашей жизни понятно, стабильно и достижимо, и вдруг обнаруживаем, что все в ней сомнительно и вязко, неуправляемо, лишено опоры – или это просто спектакль, и мы сидим в театре, твердо полагая, что перед нами реальная действительность, потому что не заметили, как погас свет и поднялся занавес, мало того, мы и сами находимся на сцене, а не внизу или наверху среди зрителей, или на экране в кинотеатре, без права покинуть его, обманом затянутые в фильм и вынужденные повторять себя самих во время каждого нового сеанса – превращенные в статистов, лишенные возможности изменить ход событий, сюжет, точку зрения, свет, всю эту историю, которую кто-то решил сделать навсегда именно такой. Глядя на собственную жизнь, человек обнаруживает, что есть вещи столь же необратимые, как история, прочитанная в книге или увиденная в кино, то есть история, уже кем-то рассказанная; есть вещи, которые заставляют нас идти по дороге, с которой практически нельзя свернуть и на которой нам в лучшем случае позволено сделать что-то неожиданное – взмахнуть рукой или незаметно подмигнуть; мы должны держаться этой дороги, даже если пытаемся убежать, потому что, сами того не желая, уже к ней привязаны и от нее зависит каждое наше движение и каждый наш гибельный шаг, а решим мы идти по ней дальше или убежать, не имеет значения. Мы движемся по ней против собственной воли, часто сами того не сознавая, кто-то нас на нее поставил – в моем случае это был Томас, человек, которого я люблю уже сто тысяч лет и с которым связала свою жизнь навсегда, во всяком случае, хотела связать навсегда.
Эти дни и недели ожидания я провела словно в густом тумане, строя разные догадки и от оптимизма скатываясь в полный пессимизм: может быть, Томас – это все тот же Томас, каким был раньше, а Кинделаны ошиблись; или Томас обманывал меня с самого начала, и у него была еще и другая, тайная, жизнь, о которой он не имел права рассказать даже мне. Я буквально изнемогала под грузом сомнений, и в голове у меня порой звучали строки, которые иногда рассеянно повторял Томас, например когда брился, – он мог их напевать, а мог нашептывать. Томас помнил наизусть массу стихов, в том числе и длинных, и я точно не знаю, из одного и того же стихотворения были все эти строки или нет и одному ли поэту принадлежали; во всяком случае, Элиота Томас цитировал часто – громко и очень быстро. Надо будет спросить его об этом, когда он вернется, – а когда, черт возьми, он вернется? Сейчас в голове у меня звучала такая строка: “Так умирает воздух”. И на самом деле беда была не в том, что мне не хватало воздуха, нет, все оказалось хуже: воздуха словно вообще больше нигде не было, его больше не было во всей вселенной – он просто исчез. А продекламировав еще несколько строк, которых я не понимала и потому не запомнила, Томас добавлял: “Так умирает земля”. This is the death of earth. Потом выносился приговор и прочим стихиям: “Так умрут вода и огонь”, – хотя было бы хорошо, если бы огонь был мертв уже в то утро, когда здесь разыгрался “эпизод” с зажигалкой и бензином. Но я не могла никак выкинуть из головы именно первую из этих строк: This is the death of air, которую он произносил всегда только по-английски.
И тем не менее я знала – вопреки пустым догадкам и сомнениям, вопреки надежде на ошибку, вопреки колебаниям, необходимым, чтобы продолжать жить изо дня в день. То, на что намекали и что подозревали Кинделаны, очень многое объясняло и поэтому было похоже на правду. Объясняло перемену характера и неровность настроений Томаса после окончания университета. Объясняло, почему у него начались проблемы со сном, его нервозность и растущее уныние по мере приближения очередного отъезда в Лондон. Объясняло, почему за короткий срок он стал много старше меня, хотя мы были ровесниками, объясняло странное душевное одряхление и внезапные приступы молчаливости; то, как он занимался со мной любовью по ночам или на рассвете, когда не мог заснуть, словно я была лишь убежищем, где можно спрятаться от накопившегося напряжения или проклятой судьбы, уже очевидной, и угаданной, и прочитанной, – от всего этого он стремился избавиться мгновенно, распаляя и опустошая свое тело, давая телу на несколько минут – или секунд, как это бывает у мужчин, – право почувствовать себя главным, что происходит с телом лишь во время болезни либо, как в этом случае, в наслаждении. Объясняло его безразличие к будущему, к завтрашнему и послезавтрашнему дню, к тому, что произойдет в ближайший год; объясняло его неверие в любые неожиданности, словно ничего неожиданного произойти уже не может, по крайней мере, для него. Объясняло – хотя бы отчасти – и то, что он сказал мне однажды, незадолго до нашей свадьбы: “Ты то немногое, что не навязано мне, а что я смог выбрать по собственной воле. Во всем остальном, как я чувствую, судьба моя решена, и не столько я что-то выбирал, сколько выбрали меня. Только ты одна – по-настоящему мое, единственное, что захотел получить я сам”. Прошло несколько лет, но я до сих пор хранила в памяти эти слова как величайшее сокровище – наверное потому, что не было других, столь же откровенных и для меня столь же важных. Они дарили надежду, веру в исключительность наших отношений, а еще они звучали как объяснение в любви. Теперь-то мне открылось: в них было много чего еще, о чем следовало задуматься. Я уловила это сразу же, честно признаюсь, но выкинула из головы, поскольку мы обычно цепляемся за смысл, который нас поддерживает, и отмахиваемся от всего остального, затеняем все прочее, чтобы в памяти не осталось ни отзвука, ни эха, ни навязчивых мыслей. Если Томас подчиняется военной дисциплине, у него еще тогда могло появиться чувство, будто его судьба решена, что он всегда будет обречен выполнять приказы и задания, не имея свободы выбора. Каждый раз, возвращаясь в Англию, он сразу же попадал в полную зависимость от начальства, из-за этого накануне отъезда мрачнел, часто выходил из себя и плохо спал. Нельзя вообразить ничего хуже положения, когда ты лишен права от чего-то отказаться, почти лишен права спорить или отстаивать свое мнение, а должен подчиняться всему, что придет в голову любому, кто стоит над тобой, даже если он вызывает у тебя неприязнь, то есть ты обязан глотать вместо вина тошнотворное пойло, которое кто-то тебе подносит. Подобное в той или иной степени испытываем все мы, чем бы ни занимались, от колыбели до могилы: почти всегда над нами стоит человек, который указывает, что нам надлежит делать, и которому мы не должны возражать, но в военной среде все это проявляется острее, там иерархия куда строже, и на ней все основано. Эта дьявольская пара, эти Кинделаны были правы: ни МИ-7 ни МИ-6 не подчиняются Министерству иностранных дел или Министерству внутренних дел, это военная структура, хотя, скорее всего, их сотрудники никогда не наденут форму, никогда. Но если Кинделаны правы и Томас работает на спецслужбы, значит, он добровольно на это согласился и, как мне казалось, мог бы и уйти оттуда, что-то переиграть. Хотя, по словам Кинделанов, “оттуда по-хорошему не уходят, это всегда очень плохо кончается. Обычно выходят либо с поврежденным рассудком, либо покойниками, а те, кого не казнили или кто окончательно не спятил, перестают понимать, кто они есть на самом деле”. Но как попал в такой переплет Томас, если он действительно в него попал?