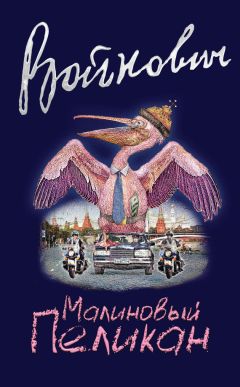Владимир Войнович - Малиновый пеликан
Мое негодование переросло в ужас, а ужас — в восхищение. Если мы оккупированная страна, а похоже, что это так, то какое мужество надо иметь, чтобы вот так открыто выступать против оккупантов! Кто мог пойти на такое? Я стал вспоминать историю. Помнится, болгарин Георгий Димитров выступил с пламенной речью на процессе, где немецкие нацисты обвиняли коммунистов в поджоге рейхстага? Чех Юлиус Фучик в немецком застенке написал «Репортаж с петлей на шее»… А что это я привожу в пример каких-то иностранцев? Разве в нашей русской истории не было пламенных ораторов, кто своим врагам, не заботясь о последствиях, бросали прямо в лицо, точнее, в их мерзкие рожи, горящие гневом слова? Я пытался вспомнить кого-то из нашей истории, но на память пришел только революционер еще царских времен Петр Алексеев, который в Особом присутствии правительствующего Сената посулил судьям, что своими издевательствами над народом они добьются того, что «подымется мускулистая рука миллионов рабочего класса, и, огражденное солдатскими штыками, ярмо деспотизма разлетится в прах». При моей жизни что-то подобное, но не очень громко выкрикивали в судах диссиденты советского времени. Они, возможно, ожидали, что судьи и прокуроры задрожат от страха или стыдливо опустят головы, но те ничего не боялись, не стыдились и не верили никаким пророчествам, а режимы, и царский, и советский, все-таки рухнули. Они рухнули, но судьи остались как будто те же, судят людей за то же, подсудимые произносят те же примерно пламенные речи, а народ безмолвствует…
А сейчас безмолвствовали цыгане. Стояли, слушали с любопытством. Но… Я понял, что пришел момент, когда молчать нельзя, и обратился к цыганам с призывом поддержать выступающего, вырвать его из цепких когтей американских оккупантов. Я им сказал:
— Господа цыгане, ну что же вы молчите? Я обращаюсь к вам как к гражданам Российской Федерации. Вы видите перед собой героя, который открыто выступает против оккупационного режима. Давайте его поддержим. Если враги захватили его и удерживают силой, давайте силой освободим его.
Я посмотрел на тех, к кому обращался, но не видел в их лицах сочувствия. А когда я поставил точку в своем призыве, вперед выступил самый старший из цыган, такой солидный, с сединой в кудрях и золотой цепочкой на бычьей шее.
— А чего это, милок, мы должны за него заступаться? Кто он такой?
Я говорю:
— Как же? Это же ваш депутат. Вы же его выбирали.
— Нет, — отказался цыган, — мы его не выбирали. Мы, то есть они, — он показал рукой на всю группу, — выбирали своего барона. Меня. А ваших мы не выбираем и в ваши дела не лезем. Нам без разницы, кто вы, русские или американцы, для нас вы все оккупанты.
Он дал знак соплеменникам, и те шустро полезли в машину. Ну что мне осталось делать? Я понял, что придется в одиночку выручать героя. Я так дернул задние дверцы этой машины, что одна из них сорвалась с нижней петли и повисла на верхней. Я заглянул внутрь и увидел, как два здоровых мордатых американских санитара тащат за ноги этого субтильного героического разоблачителя. За прозрачным стеклом в кабине сидят еще двое, очевидно, водитель и, другой, в белом халате, выездной врач, оба американцы. Они участия в насилии не принимают, а эти двое пытаются втащить бедолагу внутрь, но он им оказывает яростное сопротивление. Я решил, что должен без колебаний стать на защиту героя.
— Эй, вы! — закричал я им. — Вот ар ю дуинг, сволочиз?
Я опять частично вспомнил английский, но не знал, как на нем сказать «сволочи», и поэтому употребил русское слово с английским окончанием для множественного числа «з», и они меня поняли. Чем выдали себя с головой. Сначала так удивились моему появлению, что невольно разжали пальцы, и объект насилия чуть не вывалился в окно, но тут же опомнились, втянули его обратно, не полностью, а опять до локтей. Он застрял на прежде завоеванной позиции, а они, не ослабляя своих усилий, продолжали разглядывать меня как живое недоразумение.
— Вась, — окликнул один американец другого, — никак еще один псих на нашу голову. Возьмем?
— Да куда? Иван Иванович, — обратился второй санитар к тому, что сидел в кабине, — у нас новый пациент наметился. Что будем делать?
— Сейчас посмотрим, — вздохнул Иван Иванович.
Скажу правду, я несколько заволновался. Сейчас объявит психом и, если начнешь доказывать обратное, скрутят, наденут смирительную рубашку, вколют что-нибудь вроде галоперидола или аминазина, начнут лечить, и пока какие-нибудь правозащитники меня не вытащат из психушки, я уже буду вполне достоин того, чтобы там и оставаться. Мне захотелось сбежать, но я вспомнил, сколько мне лет, и понял, что лучше защищаться не двигаясь.
Тем временем доктор выбрался из кабины, приблизился ко мне, и в нем я узнал, вы не поверите, того самого Ивана Ивановича, который собирался доехать с нами до Курского вокзала.
Увидев его, я просто ахнул:
— Иван Иванович? Вы?
Он говорит:
— Я. А что, вы меня знаете? Вы у меня лечились? Ну да, я вижу — лицо знакомое.
— Ну как же, — я отвечаю, — конечно, знакомое. — Мы же с вами вместе вот в той машине ехали. Я в «Склиф», а вы на Курский.
Он удивился:
— Я? На Курский?
— Или на Савеловский.
— Чушь какая-то. Я на дачу по пятницам езжу с Казанского.
— На дачу вы, может, и с Казанского. Но на Курский вы ехали с гранатометом, на Савеловский с удочкой, а меня уговаривали выступить против существующей власти.
— Я вас уговаривал выступить против власти? Вася! — крикнул он. — У нас галоперидол есть?
— Есть, — отвечает Вася, — только поддельный.
— Давай, какой есть.
Появился Вася с большим шприцом, предназначенным, возможно, для лошадей. Иван Иванович взял шприц и, выставив его против меня, как ружье, прицелился.
Честно говоря, я особенно не испугался. Я только спросил:
— Извините, а у вас поменьше шприца не найдется?
— Еще чего захотел, — хмыкнул доктор. — Поменьше — это заграничные, а у нас импортозамещение.
— Стойте! Стойте! Не стреляйте! — выскочила откуда-то Варвара, стала между мной и шприцом и раскинула в стороны руки.
— Дамочка! — взвизгнул Иван Иванович. — Не мешайте мне лечить больного. Имейте в виду, он опасен для окружающих.
— Вы что? Кто опасен? Это мой муж, знаменитый писатель Петр Смородин.
— Простите, — сказал доктор, опуская руку с шприцом. — Я не ослышался? Вы действительно Смородин? Автор «Зимнего лета»? То-то я думаю, что где-то вас видел. А видел я вас не далее как в субботу по телику. Можно у вас автограф?
— Вот, — сказала Варвара, — автограф. А только что говорили, что он опасен?