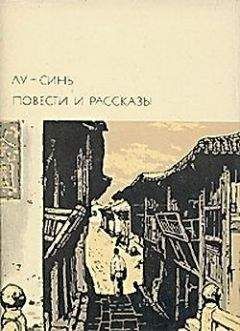Михаил Веллер - Самовар
И вот шо, сдаецца мине, из этой разницы следует.
В двадцать пять, и двадцать восемь, и тридцать – я был пожалуй что ничего, как сейчас понимаю. Ну, кое-как ничего, – мне страшно нравится, по доброй старой крутой флотской этике, высшая боцманская похвала. Об меня можно было ножи точить. Не было прав, обязанностей, долгов, репутации и публикации – была только перспектива и работа: работа была сейчас и до упора, а перспектива с идеальной полнотой сияла шедевры, славу, богатство, судьбу. Сладкое слово свобода. В прорыв без обозов.
Я был отменно нищ и самодостаточен, и разумеется никому не нужен, как неуловимый Джо. Был и мне не нужен никто.
То были специальные времена. Государство с неудовольствием оценило размер пирога, выданного письменникам, и вперилось в них с требовательным ожиданием. Вам хочется песен? их есть у меня! – рапортовали творцы, оттачивая засапожные ножики. Генерал КГБ Юрий Верченко присматривал за этим крикливым кагалом дармоедов, чтоб не давились в три горла и соблюдали субординацию. Несоразмерность лимита яств безграничным аппетитам нервировала едоков, которые зорко и злобно следили за тарелками и ртами соседей. – – И тут некто на горизонте, судя по дыму, скорости и силуэту, прет в радостной готовности, что его позовут, подвинутся, дадут стул, отрежут смачный кус и ну ласкать, пока не позовет к священной жертве Аполлон.
Да ты и есть священная жертва, дурак. Ты и есть тот мелкий козел, которым по мановению свыше заменяется под алтарным ножом родной сын. Пирожком мы сынка угостим, публично продекларировав, что из веры и верности Богу нашему не пожалеем и сына. Но поскольку кого-то же резать надо, вот ты, козел, и пригодишься. Для упорядочивания этого процесса и была создана в тот достославный момент Комиссия по работе с молодыми авторами.
Вкруг литпирога образовался застой.
Молодой писатель сразу стал отличаться от просто писателя, как член от почетного члена. Это была категория не возрастная – но качественная: знак социальной принадлежности. Нехитрый умысел заключался в том, чтоб удержать молодого в назначенном русле лет до сорока пяти. По ихней географии Волга впадала непосредственно в Пик Победы, и шлюзы построили, и паровыми свистками награждали, но по дороге надо было озеленить Кара-Кумы, тут-то все и испарялось. Клиентов стригли, раздевали, выдавали мыло, строили в походную колонну и конвоировали в баню, непосредственно из которой можно было уже не торопиться в крематорий.
К медвежьему реву охотники со временем привыкли, но к пулям с мягкими кончиками медведи привыкнуть так и не смогли.
Я не играл в их игры. Кот гуляет сам по себе (см. Брэма).
Однако хэд зэ дрим. Дрим состоял в том, что и.о. литературных величин таки заметят, оценят, проникнутся – и, небрежно отстраняя лавровые осыпи, воссяду я в сияющих чертогах врезать стопаря одесную от Одина. И буду я кумиром мира, подруга бедная моя. Мне плевать на признание, но сначала все же воздайте, чтоб было на что плевать.
Мой любимый анекдот – про меч для Волобуева:
А вот те хуй!!!
(Если держишь удар, то чем больше тебя бьют – тем больше умнеешь; пока мозги не вышибут.
…Студенты-филологи давали вечер поэзии в общаге физиков своего Ленинградского университета. В школе я любил физику, да и сейчас физики мне симпатичнее декламаторов, но в той встрече я, будьте уверены, крепил ряды стихоска-зителей. Спор физиков и лириков вылился в гуманитарный вопль: если мы идиоты, то что такое по-вашему вообще умный человек?! Очкарик-ядерщик рассудительно ответил: ум – это способность из минимума информации выводить максимум заключения, при прочих равных – в кратчайшее время и простейшим анализом [17].
Лучшего определения я и сейчас не знаю.
То есть: умнее с возрастом, разумеется, не становишься, способность твоя к анализу не увеличивается. Но увеличивается ресурс опорной, дополнительной информации, увеличивается время анализа и количество попыток. И приходишь для себя к решениям: пониманию проблем.
Вообще преимущество работы писателя в том, что задним умом все крепки, так у тебя этот задний ум – основной и рабочий: думаешь себе передумываешь спокойно и бесконечно, пока не найдешь сказать наилучше всего.
И среди понятых мною нехитрых вроде вещей, которым нас никто никогда не учил, было и насчет зависти как аспекта самоутверждения, и насчет создания нового как затенения и отрицания старого самим фактом нового, и сопротивления вообще окружающей среды любым изменениям – инерция как закон бытия, и мельница господа бога мелет медленно, всему свое время: тебя давят, а ты гни свое.)
(…Над небом голубым, под солнцем золотым, я пишу тебе это письмо в Иерусалиме, в лоджии на пятом этаже, угол Бен-Гилель и Бен-Иегуда, пешеходки суперцентра. Внизу прут и галдят сабры. Это аборигены сами себя так назвали. Слэнг – кактус: снаружи колючий и противный, а внутри сладкий и сочный. Привет от Фрейда. Самоназвание им льстит. Счастье Израиля в том, что врагами он имеет арабов, призеров раздолбайства, а не серьезный народ. Но упрямство сверхъестественное, нечеловеческое: из века в век повторять заходы в одну и ту же воду. Мне представляется интеллигентнее – конструкция бронебойной пули: мягкая оболочка и закаленный сердечник: при встрече с броней оболочка оползает вкруг точки удара и сплюскивается, не давая пуле закусываться и рикошетить – и зафиксированный тем самым твердый сердечник, деваться некуда, втыкается в броню и пробивает ее.)
Итак, я жил в Ленинграде и писал рассказы. Никто, ничто и звать никак. Суммарный вектор отзывов указывал на фиг: иди гуляй, Вася. Это выглядело все мрачнее. Невпротык.
Из атмосферы Ленинграда исчез кислород.
Боже мой. В это время ты пошел в школу. Тебе купили первый портфель. Ты учился читать и писать. Тебя приняли в октябрята. Ты был самолюбивый мальчик и придавал большое значение отметкам– Ты был заносчив и слабоват, тебя били, и дома ты не говорил об этом. Зато ты умел мечтать, любил читать, у тебя был подвешен язык, развитой был мальчик. Звонки, перемены, строем, пионеры, физкультура, контрольная.
А я варил чифир из вторяка, сшибал ночью окурки на автобусных остановках, отрезал на кухне от соседского хлеба, в комнатушке на Желябова не грела батарея, и я напяливал всю одежду на себя. И по абзацу в день работал свое.
Я писал для тебя, сынок. (Только не зарыдай от умиления, я тя умоляю.) Вот так оно исторически сложилось. Рассказы ждали, когда ты повзрослеешь и вы встретитесь.
Прошло много-много лет. Пацаненок стал подростком, юношей, мужчиной, выпускной вечер, армия, свадьба, развод, стихи, редакции, статьи, первая книга, слава столичного журналиста, тюрьма, стажировка в США, – огромная жизнь в главном, основном своем периоде.