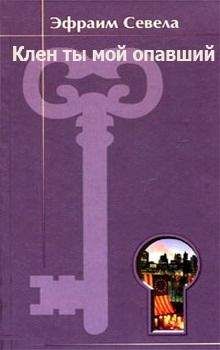Людмила Бояджиева - Пожиратели логоса
35
Здесь было на кого посмотреть, но к Тее притягивались многие взгляды. Филя ловил их и сортировал на удивленные, восхищенные, обалдевшие. Потом присмотрелся к окружающим и понял, что других взглядов у собравшихся людей не было вовсе.
На инстоляцию под лозунгом «Убийство поэта» пришли люди солидные. Но обстановка несколько выбивала из колеи даже бывалых концептуалистов. Действо происходило в реконструированной дворянской усадьбе. У парадного подъезда прямо в талой жиже стоял на карачках голый лысый человек и заливисто лаял. От ремешка на его сизой тощей шее тянулась веревка к фанерной конуре, расписанной под иконостас. Дыша перегаром, лысый лаял особенно рьяно, завидев выходивших из автомобилей солидных гостей знакомых галлерейщиков, иностранцев. Жетон отсалютовал энтузиасту фашистским приветствием и пояснил спутникам:
— Очень крупный художник. Смирный, интеллигентный человек. С ним есть о чем поговорить. Но не сейчас. Не будем задерживаться, друзья, — он подтолкнул замешкавшегося Филю к стеклянны дверям.
Поднимающихся по мраморной лестнице в фойе приветствовали два визуальных объекта. Первый представлял традиционно выполненный плакат с цитатой Пушкина:
«Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.»
Второй объект отличался формой и содержанием. Белилами на кумаче были с пролеткультовской небрежностью брошены слова: «Это объединяет нас всех» экспозиция произведений Августа Гебеля» Санкт-Петербург».
Весь центр Голубой гостиной занимал помост с заявленной экспозицией. На нем располагались триста лоточков с натуралистически изображенными фекалийными массами разной консистенции и богатой цветовой гаммы. Каждая порция — на продуманно отведенном месте.
— Питерский авангардист, — пояснил Жетон. — Состряпал вот нетленку и десять лет по всему миру катает. Всегда к месту. Потому что — вечное. «То, что нас всех объединяет» — Он тронул никелированную ручку анатомической каталки, на которой были вывалены, как в мясной лавке, ампутированные детали и части тела — в основном, с эротическим уклоном — груди и половые органы. Муляжные, но исполненные с большим мастерством. Рентгеновские снимки в светящихся оконцах черных стендов наглядно свидетельствовали о необратимых внутренних поражениях тканей раковыми метастазами. Над моргово-сортрными разносолами питерца витали загнанные в потолочный плафон амуры и нарядные Психеи с восхищенными, благостными щекастыми лицами. Приглашенные чинно обтекали экспозицию, инстинктивно стараясь не наступить в бутафорское дерьмо.
— С Пушкиным хорошо сочетается! — восхитился Филя с чрезмерной горячностью. Он сжимал ладонь Теи, ведя её за собой, как жертвенную козочку. И, если честно, очень боялся.
— Этот плакат спонсоры приволокли с какой-то юбилейный «Пушкинианы». Для тематической направленности. У них своя отчетность, — буркнул впередиидущий господин, услышавший реплику.
— По тематическим мероприятиям? — зло оживился Филя. — Знаем мы почем фунт правды.
— Ты не общайся, ты Жреца слушай, — прошипел Жетон, пихнув в бок Трошина. — Это ж сам Петухов! Теоретик концептуализма. Офигенный писатель.
«Кал — это некий предел доступной нам непосредственности — того, что существует до понятия, до символизации, до рефлексии… с чем и связан интерес постмодернизма к предметам грубой телесности, в частности, к экскрементам…» — изрекал господин в черном балахоне, устроившийся с книгами на постаменте. Обитое шелковым васильковым штофом кресло с золочеными ножками подчеркивало интересность сказанного, а ярлык у носков ботинок пояснял: «Жрец».
Кто-то успел косо приписать карандашом: «Полный пиздец!»
— Мозговитый мужик! — восхитился взявший на себя обязанности Виргилия Евгений. Это он организовал посещение инстоляции Трошину и его девушке.
— Народ тут, похоже, начитанный… — Филя повел носом, ловя алкогольное амбре.
— Бывший андерграунд, сочуствующий молодняк. Официальные лица, покупатели, сами творцы. Художники, литераторы.
— А Перервин где?
— Он не тусуется. Ему харизма не позволяет на людях появляться.
— А что, что не так? — насторожился Филя. — Родимые пятна?
— Насчет этого не интересовался. Внешность вполне отечественная — так сказать — обобщенный образ моргинала. Типаж для фильма «Особенности национальной культуры». Только здесь его не принимают — говорят — попса. Чтиво на потребу широких масс псевдоинтеллигентной молодежи.
— Завидуют массовому успеху более одаренного коллеги, — Филя резко умолк, заметив уничижительный взгляд, брошенный на него чрезвычайно упитанным и хорошо упакованным господином, подходящим под категорию «маститый» и членство в СП.
— Однако, серьезные здесь толпятся папаши и многие из молодняка, как полагаю, совсем не бедные. Неисповедимы пути гонимых и великих. «И Александр Македонский торчит затычкою в щели», — ядовито прошептал Филимон.
— «В половых щелях Шекспир и Гитлер, Гамлет обнимается с «Майн кампф», Ленин жопу мятой «Искрой» вытрет и умчится на броневиках…» — так точнее, если ты меня цитируешь. — Внятно, что бы слышала публика, продекламировал собственное сочинение Жетон.
— Вообще-то не тебя я вспомнил. И не про то, — Филя смущенно оглянулся. Вместе с приглашенными, среди которых, как на карнавале, отмечалось совмещение несовместимого — погонов Вооруженных сил СССР и касок со свастикой, модной ленинской плеши и архаического панкового ирокеза, джинсовой рвани и фирменного прикида, людей толстых и тонких, юных и солидных, они вошли в основное помещение. Интересно выглядела и троица под предводительством Жетона. Сам он, облаченный в алую косоворотку был похож на участника ансамбля «Червона бульба». Филя ограничился тематически соответствующим черным, здорово поношенным свитером и новым шнурком в дужках очков. Кавалеров облагораживала дама. Снежный дым её длинного пухового платья подчеркивал волшебную хрупкость музы — тонкое тело, узкое лицо в ореоле витающих шелковых прядей — именно такие видения запечатлевают одним росчерком пера на полях мечтательных стихов гениальные самоубийцы.
Бальный зал сиял былым великолепием, не желая изображать загаженный подвал, в котором пристало кучковаться «подпольщикам». Среди роскоши золоченой лепнины, картин, хрустальных канделябров, антикварных предметов мебелировки, расположились фрагменты инстоляционного действа — поэтические покойники в разных вариантах умерщвления и истязания плоти.
— Н-да… с такой комплекцией шарить под висельника не просто… Филя отшатнулся от босых желтых пяток, висящих прямо у его лица. Довольно плотный мужчина в армейских кальсонах с эмблемой американских ВВС и женственной обнаженной грудью искусно изображал самоубийцу — качался на веревке, тянущейся от гардинного крюка. Закинув лысую голову, он высунул лиловый толстый язык. На животе жертвы, висел плакат: «Мороз и солнце, день чудесный! С петлей на шее друг прелестный…»
Были и другие объекты на тему собрания. У стены, рядом с бронзовыми канделябрами стояла облупленная ванна, наполненная розовой водой, а в ней раскинулся некто черноволосый и нежный, свесив руки с рассеченными венами.
— Кетчуп, — повел носом над раной Жетон и макнул в воду палец. «Балтимор». Вода, между прочим, холодная.
— Помещеньице недурственное, — обвел Филя благостным взором потолок с лепниной и антикварными люстрами.
— Дворянское гнездо. Мэрия для мероприятия выделила. Финальный фуршет в будуаре графини. Раньше в подвалах при ЖЕКах, в Красных уголках гнездились отверженные. Однажды в Ленинской комнате фабрики резиновых изделий при большом стечении опальных гениев и милиции кур резали. Не бойся детка, дяди хорошие, — Жетон по-отечески приобнял Тею, подчеркивая покровительственную ноту и кивнул следующему «мертвецу», восседавшему за изящным ореховым секретером при свече и стопке рукописей. Из руки убиенного творца выпало гусиное перо, а бутафорская дырка в виске блестела каплями совсем живой крови. Пустые глаза блудодея и наркомана смотрели сквозь толпу.
— Вован. Были и у него перлы: «Надо знать во-первых кто мы и для чего мы человеческой звездою вперед ведомы, что бы выучиться двигаться по-червячьи…»
— Чего-о-о? — уставился на застреленного Филя. — Какие червяки?
— Это он про Мересьева сочинил, бедолага. Нанюхался зелья, глаз стеклянный. Я бы таких на важные мероприятия не брал — весь бархат тут облюет. Хорошо, ковры сняли.
— Это все правда поэты?
— Ну… — Жетон пожал плечами. — Пишут.
— Почему же все непременно поэты? — к троице обратило надменный взор интеллигентное лицо с бородкой. — Прозаики, высший эшелон. Вот, в соседнем зале с автографом Ер. Орфеева приобрел. И фотографии его, по 50 р штука.