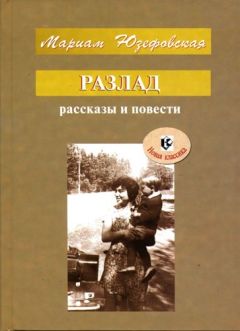Мариам Юзефовская - Господи, подари нам завтра!
По утрам Нагорная выходила на черный ход с низеньким круглым стульчиком. Основательно усаживалась, широко расставив крепкие, полные колени. Доставала из кармана меховой кацавейки два гладких кукурузных початка. Обстоятельно оглядывала их, словно примериваясь, и уже тогда с азартом, споро начинала тереть один о другой. В подол падали первые зерна, и вот уже тянется, вьется тонкая, прерывистая струйка яичной желтизны. Подол провисает все ниже и ниже. Мы с Ленькой, замерев, слушаем мерный сухой треск початков, сиплое дыхание Нагорной. И вот наконец с глухим стуком падают на пол кочаны. Пустые. Ячеистые, всегда на пол! Грязный, заплеванный, в крысином помете.
Мы стремглав бросаемся вслед. Только бы не скатились вниз, не упали в грязную провальную яму подъезда. Но вот шершавый початок уже в руке. У заостренного конца всегда остается пять-шесть сморщенных зерен. Сухих. Маленьких. Но как сладко набегает слюна, пока осторожно выколупываешь их из початка. Как долго можно перекатывать, мусолить их во рту. Точно довоенное монпансье из железной круглой коробочки. А после размалываешь, растираешь их в мучнистую, сладковатую кашицу. Кажется, вся в этом наслаждении. Но глаза помимо воли следят с мстительным нетерпением за Нагорной. Она неловко перегибается, пытаясь в полутьме кабины на ощупь поймать гуся. А тот шипит, изворачивается, хлопает крыльями, угрожающе щелкает клювом. Сердце подрагивает от нетерпения: сегодня наконец-то он ее ущипнет и она тонко, по-щенячьи взвизгнет: «Ай-яй-яй».
Но как редко это бывает. Обычно не успеешь глазом моргнуть, а гусь уже зажат между мясистыми сильными коленями и палец в замшевой перчатке ловко пропихивает зерна прямо в гусиную глотку.
Однако угрюмая мстительная надежда не оставляет меня: сейчас намертво сомкнется клюв. Пусть он прокусит перчатку. Пусть. Мне не жаль.
Перчатка знакома до мелочей. До маленькой штопки на мизинце, до коричневой облупленной пуговки на запястье. Перчатка мамина. Перчатка осталась, а мамы уже нет и никогда больше не будет. И крохотные золотые сережки в ушах у Нагорной тоже мамины. И даже низенькая, обитая кожей табуретка тоже мамина.
«Пуфик», – говорила мама и фыркала буквой «ф». Два маленьких рожка ее курчавых волос бодали меня. Щекотали лицо, шею. И я смеялась до слез, до икоты, до страха – сейчас задохнусь.
«Почему мне теперь никогда не бывает так смешно?» Я лениво процеживаю сквозь зубы все еще сладковатую от кукурузных зерен слюну. На минуту задумываюсь и замираю. Среди вони, запустения и помета внезапно выплывает далекий, полузабытый мамин запах. Все начинает мелькать и кружиться перед глазами, набирает ход, как карусель в парке. Быстрее, быстрее, еще быстрее.
«А теперь, доча, мы с тобой разгонимся и прыгнем на ходу!» – папины руки подхватывают меня и поднимают вверх. «Это опасно!
Не смей, не смей!» Кто это крикнул? Я или мама? Не знаю. Я повторяю про себя: «Не смей, не смей». Сейчас все сольется в огненный круг. Я начинаю покачивать головой, как китайский болванчик: из стороны – в сторону, из стороны – в сторону, приговаривая в такт: «Не смей, не смей вспоминать. Этого никогда не было – и не будет». Я отгоняю от себя прошлое. И оно тихо, бесшумно уходит, ускользает кудато вниз, в черный провал лестничных маршей. Карусель вращается все медленней и медленней. Вот и все. Остановилось. На этот раз все. Я не упала. Я не выгнулась дугой, я не закричала сквозь стиснутые зубы протяжно и тонко: «Момэлэ (мамочка)!» Но, видно, в лице моем что-то переменилось. «Тю, скаженная, – губы Нагорной брезгливо морщатся, – геть видсиля!» Она хочет вытолкнуть меня и Леньку с черного хода, но мы опережаем ее, сбегая стремглав на несколько маршей вниз. Как раскатисто грохочут под нашими ногами железные рифленые ступени! Мы прячемся за чью-то жиденькую поленницу. В тусклом подслеповатом свете лампочки, горящей вполнакала, нас ни за что не найти! «Голодранцы», – кричит нам вслед Нагорная. Дверь, ведущая в нашу коммуналку, с треском захлопывается за ней. В морозной тишине слышится шорох гусиных крыльев. «К Новому году Нагорниха его зарежет, – говорит Ленька и громко сглатывает слюну, – будет топить сало и шкварки жарить, а после гостей назовет. В прошлом году у нее кролик был. Тоже к Новому году зарезала. Вы тогда еще в эвакуации были». Я молча киваю. Мне кажется, что это было давным-давно.
Низкий глинобитный забор. Маленький, приземистый домик с узкими подслеповатыми окошками. Дымящая печурка, в которую бабушка экономно подбрасывает сухой, ломкий серый кизяк. «Вот увидишь, – она поднимает вверх сухонький палец, – следующий Новый год мы будем встречать дома. Помнишь нашу голландку?
Мы затопим ее, и к нам в гости придет Миша с Марией Федоровной». – «А елка?» – спрашивала я, насупившись.
Мы вернулись домой, но в нашей комнате, где стоит голландка с голубыми изразцами, живет Нагорная. И Мишу Филимонова я уже не застала. Умер. Я не узнала ни нашу улицу, где вырубили все акации, ни нашу квартиру, разделенную перегородками и заселенную новыми жильцами, ни даже Марию Федоровну. Когда какаято неопрятная седая старуха в подпоясанном мужском пальто и растоптанных солдатских башмаках кинулась со слезами к бабушке, я испугалась. До войны Мария Федоровна носила платье с белоснежными воротничками и до блеска начищенные черные туфли с перепонкой. «Старая закваска», – изредка хмыкал мой насмешник отец.
– Слышь, ты что, оглохла? — Ленька тянет меня за рукав. – Я тайну знаю. Клянись, что никому не скажешь.
– Под салютом всех вождей, – вяло бормочу я.
– Вчера своими глазами видел, как Нагорниха Степана Васильевича приваживала. Меня мамка к ней с выстиранным бельем послала. Захожу, глянь, а она ему в рюмку самогонку наливает. Он пьет, салом закусывает. Ну я, не будь дурак, и притаился у двери. Слышу, она ему говорит, мол, Филимонова – немецкая шпионка.
– Ты что? – От испуга у меня перехватывает дыхание.
– Ты что, – передразнивает меня Ленька. – То, что слышишь.
Говорит: «Она и до войны с немцами дружбу водила». Про какуюто немку Марту вспоминала.
И тут будто во мне тугая пружина щелкает: «Их гее цу майнем фройнд, ду вирст анс телефон геен (я пошел к своему другу, тебя зовут к телефону)». – Я шепчу эти бессмысленные фразы и смеюсь.
– Спятила? — толкает меня Ленька.
– Она меня и Мишу немецкому учила, – выныриваю я из своих довоенных воспоминаний. — Это Марта Генриховна. Такая каланча, а голос как у цыпленка: «пи, пи, пи», и сама вся конопатаяконопатая. Мы как увидим ее, сразу прятаться. А она, бывало, ждет нас, ждет. Потом они с Марией Федоровной садятся чай пить.
– Настоящая немка? – Голос Леньки начинает дрожать от злобы и ненависти. — Фрицевка, да?
Я пугаюсь. Мне становится страшно за Марию Федоровну.
– Что Степан Васильевич сказал Нагорнихе?
Степан Васильевич с весны сорок пятого работал у нас домоуправом. Днем сидел в конторе за столом, на котором стояли отключенный телефон и портрет в самодельной картонной рамке – маршал Жуков на белом коне. А ночью, подстелив шинель, на том же столе укладывался спать. Во дворе у нас его все боялись. И когда он, чуть прихрамывая на раненую ногу, с офицерской планшеткой через плечо выходил из конторы, самые отпетые пацаны тотчас затихали.
– А тебе какое дело? – с холодным подозрением спрашивает Ленька.
Понимаю — он уже сожалеет о том, что поделился со мной своей тайной. Обиженно роняю:
– Раз не веришь, зачем же клятву брал?
– Ладно, – бурчит Ленька, – не куксись. Степан Васильевич сказал: «Вы как уполномоченная по квартире, если имеете подозрение, то пишите заявление. Пусть соседи подпишут. Я сообщу куда надо.
И будут разбираться».
Вечером того же дня, когда бабушка и тетя Паша, Ленькина мать, возились на кухне, Нагорная громко объявила:
– Граждане жильцы! Я как уполномоченная написала заявление о предательской деятельности гражданки Филимоновой во время немецко-фашистской оккупации. Вы должны его подписать.
Мне стало жутко. «Значит, Ленька ничего не выдумал». Я вжалась между стенкой и шкафом. Авось не заметят.
– Та ви що, з глузду зъихали (с ума посходили)? Она ж на ладан дышит, наша баба Маня, – тотчас вскинулась тетя Паша и всплеснула руками.
– Ничего! Как немцам прислуживать, так здоровая была, как конь, а наши пришли, так сразу помирать собралась, — усмехнулась Нагорная. — Видно, ей Советская власть не по нутру. Как и мужу ее, белогвардейской сволочи. В общем, ладно, нечего тут рассусоливать. Подписывайтесь, а знающие люди без нас разберутся, враг она Советской власти или нет. – И Нагорная подошла с бумагой к моей бабушке Доре.
– Вы меня извините, мадам Нагорная, но подписывать такую бумагу не могу. Я Марию Федоровну почти четверть века знаю. Она очень порядочный человек. Очень. А что муж ее в белой армии служил, так знаете, повинную голову меч не сечет. – Я слышу, как голос бабушки дрожит и прерывается, и мне становится больно за нее.