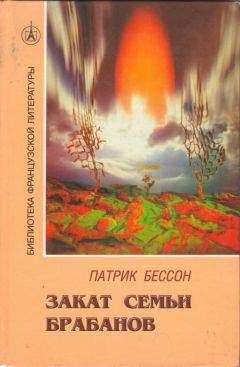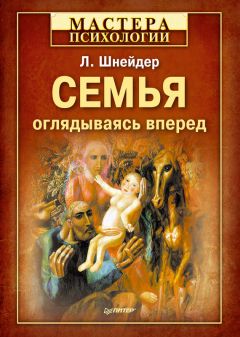Грация Деледда - Свирель в лесу
В полдень его тень падала в сад нашего соседа, заслоняя от солнца цветную капусту, которая приобретала от этого какой-то мертвенный цвет. И все, казалось, хирело и блекло в его погребальной тени: и сам сосед, который бледнел и чахнул, словно подавленный собственным одиночеством, и его сырой и безмолвный дом, и прилегавший к дереву жалкий, запущенный участок нашего сада, и наш ветхий дом, и даже я сама, безучастно смотревшая на то, как впустую проходят лучшие годы моей юности.
Каждый день в одно и то же время мимо моих окон неторопливо проходил сосед, направляясь на службу и возвращаясь домой, и это движение, неизменное и монотонное, напоминавшее ход стрелки на циферблате часов, навевало на меня ощущение смерти. И моя душа сжималась в комочек и погружалась в сон, ленивая, умиротворенная и даже довольная этой дремотой, словно кошка, свернувшаяся на теплой печке.
В последнюю зиму, которую я провела дома, произошло выдающееся событие. Одна из моих кузин вышла замуж, и я вместе с другой кузиной была подружкой на свадьбе.
В свадебном шествии, сверкавшем нарядами из яркого бархата и парчи, шел и наш сосед. Высокий, одетый в черное, среди пестрой толпы он выглядел кипарисом в цветущем саду.
Но как ни странно, он оказался одним из самых веселых гостей: он даже играл на гитаре и пел, стараясь рассмешить девушек своими любовными серенадами.
За столом я сидела рядом с ним и, наверное, как всегда, не обратила бы на него внимания, если бы он вдруг тихо, и не глядя в мою сторону, не заговорил со мной, будто шептал что-то про себя.
И тут я с ужасом обнаружила, что он знает обо мне все: мой возраст, мои привычки, мои тщеславные мечты и далее то, что я уже смирилась с мыслью об их неосуществимости.
— Но кто вам все это рассказал?
— Кто? Ваш друг.
— У меня нет друзей.
— Нет, у вас есть друг, и вам лучше от него избавиться.
— Не понимаю.
— Зато я отлично все понимаю. У вас есть друг, который заставляет вас попусту терять время. Тень вашего друга падает и на меня.
— Ах, кипарис!
— Вот именно, кипарис.
Не глядя в мою сторону, он налил себе бокал вина и протянул к нему большую белую волосатую руку: его кисть разжалась, словно лапа кошки в тот момент, когда она собирается схватить свою жертву. Осушив бокал, он со злобной решимостью поставил его на место, стукнув донышком об стол.
— Срубите кипарис, — сказал он мне, не повышая голоса. — Моя мать тоже его не любит. Она говорит: «Покуда там будет стоять это дерево, не будет жизни ни нам, ни соседям». Срубите его, мне хочется, чтобы моя мать умерла счастливой: ведь она так настрадалась на своем веку и теперь совсем уже старуха. Стареем и мы с вами, синьорина. Что поделаешь! Срубите кипарис, и потом мы снесем разделяющую нас стену.
— Вы поняли, что я хотел сказать? — спросил он, но не сразу, а, казалось, прислушиваясь чутким ухом охотника к стуку моего сердца. Я молчала, но он уже услышал ответ по биению моего сердца и был слишком умен, чтобы его не понять. И с этой минуты я не переставала ощущать, что рядом со мною живет враг.
Но с некоторых пор враждебность его матери стала беспокоить меня больше, чем его неприязнь.
Мать я знала еще меньше, чем сына, хотя только стена разделяла наши сады. Из дому старуха выходила дважды в год: один раз чтобы послушать пасхальную службу, и второй — чтобы накупить в нашем лучшем магазине сукна, полотна и всякой всячины на целый год. Третий раз, говорили насмешники, она выйдет разве только для того, чтобы посватать сыну невесту.
И вот однажды, в феврале, в первый погожий день после долгой суровой зимы, когда я стояла у окна, подставив лицо ласковым лучам солнца, дверь у соседей отворилась, и из нее вышла старуха.
Высокая и худая, как сын, она была в черном суконном платье, отделанном бархатом. На груди и в разрезах рукавов ослепительно сверкала белая сорочка. Ее высокая фигура походила на кипарис, присыпанный снегом.
При первом ее шаге я спросила себя, куда это она направляется, при втором — вспомнила, что до пасхи еще далеко, при третьем — сообразила, что и для покупок еще слишком рано, а на четвертом — побледнела, и сердце мое замерло, как только старуха остановилась у наших дверей. Она пришла по мою душу.
Что ни говори, а ведь сын ее был прекрасной партией, и сколько бы ни смеялись девушки над его любовными серенадами, они не смогли бы отказать такому жениху.
Я ждала, что меня пригласят вниз принимать ужасную старуху, но время шло, а меня никто не звал. Можно было подумать, что все это мне просто почудилось! Но такой уж у нас обычай: девушка не должна присутствовать при сватовстве, ее спросят после, потому что ответ надо дать спокойно, рассудительно, с соблюдением приличий, даже если предложение очень заманчиво.
Но вот наконец, увидев, что старуха выходит из дома я спускаюсь вниз и замечаю мрачные, словно разочарованные лица. Но я ни о чем не спрашиваю, я просто жду, и мне кажется, что после визита старухи даже воздух в нашем доме напоен печалью.
Вечером, когда вокруг стола, словно для семейного совета, собрались все домочадцы, я узнаю страшную тайну. Старуха приходила с требованием срубить кипарис.
Мы обсуждаем положение. Кое-кто из неприязни к кипарису говорит, что старуха права, другие возражают, потому что в их глазах требование соседей выглядит бессмысленным самодурством. Правда, на стороне соседей закон, предписывающий и деревьям держаться на должном расстоянии от чужой собственности, но почему же они только сейчас вспомнили о законе?
Об этом знаю только я.
И когда семейный совет заканчивается, я иду в сад, чтобы поклониться дереву-другу, чей удел отныне невидимой питью связан с моей судьбой.
Странно, но кипарис будто бы рад принесенному мною известию. В эту холодную, но уже напоенную ароматом подснежников ночь жемчужный ореол, окружающий дерево, кажется, исходит от его протянутых к небу ветвей. Потом над его вершиной загорается отблеск луны, и кипарис превращается в волшебную свечу.
Я прислоняю голову к стволу дерева, прося у него совета и поддержки, и оно велит мне молчать, сопротивляться и ждать.
Человек за забором тоже молчал и ждал. Я чувствовала, что он ждет, ждет с жестоким нетерпением охотника, подстерегающего в засаде беззаботную лань.
Но ведь я не была беззаботной, ни о чем не подозревающей ланью, и он знал это. И если он делал вид, что целью его охоты был кипарис, под корой которого струилась кровь моих грез, то только потому, что он был горд и хотел избежать отказа. А может, и потому, что в его характере было что-то романтическое, ибо в конце концов и сама гордость является проявлением романтического склада души.
Он хотел спасти свою репутацию в глазах других людей, а главное — в глазах своей матери, которая хотя и знала тайный смысл затеянной сыном игры, но все же продолжала держаться гордо и с достоинством.
И вот через две недели она снова появилась у нас, как и тогда, в своем парадном наряде, словно пришла получить от меня ответ.
Я ждала ее: ждала со страхом, ненавистью, решимостью. На этот раз я спустилась вниз, не дожидаясь, чтобы меня позвали, и приняла ее с ледяной и суровой вежливостью, которой хотела дать ей понять, что она имеет дело с достойной противницей.
Не она, а я засыпала ее вопросами:
— Почему вы хотите, чтобы мы срубили кипарис? Чем он вам мешает?
От него сырость в огороде и овощи совсем не растут.
Что для вас пара кочанов капусты, если вы и без того здесь самая богатая и за пазухой у вас полно денег, а дома тайники набиты доверху!
Она самодовольно улыбнулась и невольно дотронулась до груди, как, впрочем, делала частенько, ибо действительно хранила деньги за пазухой.
— Не в деньгах дело, дочь моя, дело в солнце, в радости, в людях. Дети моих племянниц перестали приходить ко мне в сад, потому что боятся заболеть в этой губительной тени.
— Тем хуже для них: значит, это слабые и дурные дети.
Поняла ли она? Не знаю. Помню только, что она смотрела на меня своими большими и еще ясными глазами, смотрела как бы из глубины зеркала с простодушным выражением сострадания.
— Мои внуки крепкие и умные дети, бог даст, они выучатся и разъедутся по всему свету. Я говорю, конечно, о мальчиках, потому что девочки должны сидеть дома, работать, заботиться о семье, рожать здоровых детей и спокойно довольствоваться благами, которые посылает нам бог. Счастье ведь у домашнего очага.
Я не ответила: да и зачем? Она же поняла, что пора вернуться к главному в нашем разговоре.
— По правде говоря, этот кипарис всегда нагонял на меня тоску. Он приносит несчастье: ведь это дерево мертвых, его семя, должно быть, залетело сюда с кладбища. Давайте-ка, не ссорясь, срубим его, а в Иванову ночь разожжем из него хороший костер.
— Почему же вы раньше молчали?
— Почему? Да потому, что только к старости начинаешь верить в дурные приметы и думать о смерти.