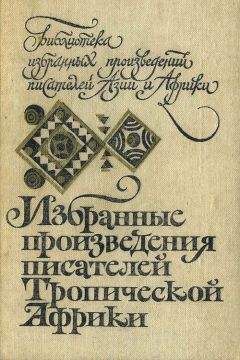Айи Арма - Осколки
— Стойте! Если он вас укусит, вы и сами сбеситесь!
И через секунду еще кто-то из взрослых спокойно добавил тоном знатока:
— Да и если оцарапает — тоже.
Эти возгласы были слышны необычайно четко, и он подумал, что такого солнечного, такого ясного и прозрачного дня он, пожалуй, не видел ни разу в жизни. Казалось, между ним и погоней, между ним и всем, что его окружало, не было никакой преграды, даже воздуха, и пространство, от земли до самого неба, наполнял лишь тихий серебристый свет. Мальчишки уже опомнились и помчались назад, к взрослым, но, обнаружив, что он не гонится за ними, перешли на шаг. Он медленно сдвинулся с места, и мальчишки ускорили отступление, так что разделявшее их расстояние продолжало увеличиваться. Он внимательно всматривался в толпу и не видел ни одного знакомого лица. Он жил здесь целый год и ни с кем не познакомился. Мало этого — ему вдруг пришло в голову, что у него вообще нет друзей. Ни одного во всем городе. Сотрудники… но никто из них не вступился бы сейчас за него как друг. Хуана — другое дело. Но она в Америке… или еще только возвращается из своего слишком долгого путешествия. Ну а здесь, среди соседей, — ни одного знакомого лица, не то что друга.
Он думал, что, если ему удастся выбраться с пустыря на улицу, он сможет уехать на попутной машине. Кто-нибудь наверняка поймет, в чем тут дело, и увезет его от обезумевшей толпы; в городе он выпьет чего-нибудь освежающего и спокойно все осмыслит. Ему не препятствовали — он вышел на улицу и в нерешительности остановился, а преследователи окружили его широким кольцом. Первым по улице проехал красный «воксхолл». Он поднял руку, но водитель испуганно прибавил скорость и умчался. Белый «пежо» тоже не остановился, и Баако медленно опустил руку. На солнце набежало облачко. Оно сразу же растаяло, и тут его снова охватил озноб, но кожа покрылась горячей испариной; рубашка плотно облепила спину, а влажные трусы неприятно приклеивались к ягодицам. Кольцо вокруг него медленно сжималось, но никто пока не отваживался подойти к нему слишком близко. На него навалилось тупое, безразличное спокойствие.
Вдали показался черный, сверкающий свежим лаком «мерседес-бенц». Баако не стал подымать руку — он выскочил на мостовую, и водителю «мерседеса» пришлось затормозить. Баако отступил, чтобы подойти к боковому окну, но, как только дорога освободилась, машина плавно тронулась с места. Он не успел разглядеть водителя, да это было ему и не нужно, потому что в его голове уже возник образ человека, равнодушно не замечающего мольбы о помощи.
— Подождите, послушайте! — крикнул он, надеясь, что машина остановится и ему удастся поговорить с ее владельцем. Но тот не отвечал, и «мерседес» неумолимо, хотя и медленно, набирал скорость.
— Бремпонг!.. — Его неуверенный зов остался без ответа. Но он не дал машине уехать. Он вцепился в боковую стойку и побежал, заглядывая в окно водителя, а тот продолжал набирать скорость, и Баако приходилось бежать все быстрее, и он запнулся и безвольно поволокся за машиной, а его ноги, подскакивая на неровностях мостовой, болтались где-то сзади. Выпустив наконец стойку, он услышал рев выхлопных газов и гомон толпы:
— Господи! Он угробил себя!
— Нет, кажется, жив.
— А что с ним случилось-то?
— Враг наслал на него порчу.
— Нет, говорят, он сам себя довел.
— Книги его довели.
— Во-во! Книги.
— Книги.
Никто, казалось, не мог решить, что же теперь надо делать, и Баако, лежа на мостовой, слышал, как вокруг него усиливается шумная сутолока, а потом общую невнятицу голосов прорезал звенящий слезами крик, и он с тревогой узнал голос Арабы:
— Да сделайте же что-нибудь! Сделайте же что-нибудь, пока он себя не убил!
После недолгой тишины опять поднялся взволнованный говор; послышалось несколько вопросов и ответов:
— Сестра…
— Это сестра.
Через некоторое время всхлипывания Арабы затихли, и она сказала:
— Свяжите его.
Силы постепенно возвращались к нему. Он повернул голову и посмотрел на сестру. У нее были заплаканные, ввалившиеся от горя глаза с красными, как будто это их естественный цвет, белками. В глазах застыли жалость и злость, но Баако не понимал, кого Араба жалеет и на кого злится. Он встал и увидел, что к нему приближаются двое мужчин с длинными веревками в руках, а следом за ними идет третий, неся крученый шпагат, — где они все это добыли, Баако так и не узнал.
…Ему чудилось, что вот уже целый час он мечется в кольце обступивших его людей, прыгая и уворачиваясь от веревок.
— Не давайте ему отдыхать, — утомленно сказал один из охотников. Люди разобрали веревки и принялись кидать их ему под ноги; они не спешили, тщательно целились и внимательно наблюдали за ним. Под конец он сделался совершенно мокрым; его тряс озноб, но он продолжал отскакивать, уклоняться и судорожно отдергивать ноги от извивающихся веревок. Ненависти, да и вообще никаких чувств, ни он, ни окружающие его люди не испытывали — они деловито накидывали ему на ноги веревки, а он увертывался, понимая, что это бесполезно, и быстро теряя силы. Когда ему стало совсем уж невмоготу и он решил было сесть прямо на мостовую, один из охотников, прицелившись лучше других, удачно бросил веревку, дернул — и он упал навзничь. Ему уже не хотелось сопротивляться — он чувствовал только недоумение, озаряемое смутным страхом. Когда к нему вернулась способность воспринимать окружающее, он увидел небо — оно походило на бескрайний алюминиевый лист.
Охотники действовали с проворством испуганных людей, которые поняли, что их страхам пришел конец. Человек в мягких сандалиях наступил ему на пальцы, чтобы он не мог никого оцарапать, и вмиг его руки и ноги были крепко-накрепко связаны. Шпагат мучительно врезался в кожу запястий.
— Пожалуйста, — начал он, — расслабьте немного… — Но никто уже не смотрел на него и не интересовался тем, что он может сказать.
Двое мужчин подняли его и понесли, настороженно следя, чтобы он не оцарапал или не укусил их, а дотащив до дома, оставили во дворе. Здесь вокруг него опять собралась толпа, и, лежа на спине, он видел, как люди переговариваются и покачивают головами. Они изливали на него потоки сострадания, настоянного, как ему казалось, на извращенной правде и бессмысленной лжи, а он ничего не мог сделать, чтобы остановить этот водопад.
— И, говорят, все из-за книг.
— В школе-то он был чуть ли не первым учеником.
— Побывавший, только год как вернулся. Мать, значит, ждала, ждала, и вот ей подарочек.
— И ведь всегда был таким тихим.
— А правда, что он образованный?
— И образованный, и побывавший.
— Он ездил на автобусе, поэтому я и спросил.
— Образованный, будьте уверены. Уж я-то знаю.
— Как же это он без машины?
— Странно, и государственного коттеджа ему не дали.
— То-то оно и есть, что странно.
— То-то оно и есть.
Потом он услышал голос Нааны:
— Что вы с ним сделали? Что он вам всем сделал? Где он? — Но старухе никто не ответил, и он понял, что ее увели.
Зеленый микроавтобус задом въехал во двор, и Баако, лицом вниз, положили на металлический пол. Ему не удавалось поднять голову, чтобы посмотреть, куда они едут. Потом он обнаружил в полу узкую щель, но сквозь нее был виден только стремительно убегающий назад серый асфальт. Один раз, забывшись, он попросил, чтобы его выпустили из машины, и вместо ответа кто-то прижал ему голову к железному полу. Выпустили его во дворе психиатрической больницы. Появилась сестра в голубом халате; она сказала, что если он никому не причинил вреда, то можно развязать ему руки, и печально добавила:
— Придется поместить его в отделение для самых тяжелых.
…Он проснулся и почувствовал, что лежит на теплом цементе. Солнце было все еще ярким, но уже склонялось к западу и скоро должно было скрыться за колокольней католического собора, который возвышался над рядами колючей проволоки, натянутой поверх больничной ограды. От большой группы сумасшедших отделились двое. Один из них нес в руках раскрытую Библию и непрерывно сыпал словами Священного писания. Второй молча шагал сзади. Они подошли к нему, одновременно, словно по приказу, остановились, в лад покивали головами, улыбнулись и пошли прочь. Он глянул им вслед и залюбовался багряными цветами какого-то вьющегося растения, которое дотянулось до крыши дома напротив. Его переполняло ощущение счастья.
Глава десятая
Эфуа
Одна и та же мысль, словно постоянно повторяющийся обвинительный кинокадр, мелькала в его сознании: правы, правы, все они правы, все они правы, правы, правы. В самом начале счастливая, исполненная надежды улыбка матери и ее разговоры — ласковые, радостные — о его будущей просторной обители в этом мире. А он, с идиотизмом новорожденного, твердил, что не нужны ему просторные обители, не желает он пыжиться ради того, чтобы занять побольше места. Надеялся ли он, что его упрямство будет понято, или упрямился без всякой надежды на понимание, когда отвергал немые просьбы матери и не отвечал на ее вопрос — все еще дружеский, все еще ласковый: «Разве орел не должен парить в поднебесье?»