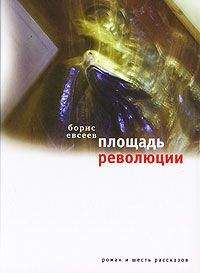Момо Капор - Книга жалоб. Часть 1
Чтобы не стать жертвой подобного психоза (не хочу прослыть городским дураком!), я пытаюсь спокойно разобраться в сути происходящего. Прежде всего необходимо попробовать взглянуть на это дело со стороны. Вместе с окурками из переполненной пепельницы вытряхиваю в унитаз и чувство жалости к себе, и возможное самомнение, а также наброски будущего памятника себе-мученику. Спускаю воду.
В одном можно быть уверенным: у товарища Учи нет никаких особых причин ненавидеть меня, потому что мы даже не знакомы. Сильнейшая неприязнь, которую он испытывает ко всем гнилым интеллигентам, по всей вероятности, уходит корнями в его нищенскую молодость недоучившегося слушателя Учительской школы, откуда, кстати, и идет его знаменитое прозвище[27].
Может, какой-нибудь франтоватый гимназист увёл у него из-под носа девушку на провинциальном балу в 1938-м? Может, он завидовал счастливым городским детям, которые по утрам пили кофе с молоком? Разумеется, не следует забывать, что «он безмерно любит весь народ в целом, ненавидя каждого человека в отдельности»… Во всяком случае я для него значу не больше, чем жёлтый бильярдный шар, на который он нацелился кончиком своего кия. Если мы пойдем еще дальше, то обнаружим, что и самого доктора он ненавидит лишь как представителя старой революционной элиты, чьим наследником является. Конечно, он, в биографии которого за неимением исторического оправдания ловко обходятся кое-какие скользкие места, не может не завидовать их чистому революционному прошлому. Доктор для него, стало быть, второй шар. Красный. В этом хитром политическом карамболе товарищ Уча ударом желтого шара по красному одновременно разбивает скопление шаров в углу бильярдного стола. С помощью меня и Доктора, на которого он не решается нападать в открытую (даже если Уча и переживёт его, то ещё долго будет побаиваться его трупа), Уча обвиняет в отсутствии бдительности тех, кто разрешил печатание сомнительных мемуаров Доктора, клеймит тех, кто попустительствовал возникновению политического климата, в котором вообще стало возможным появление такого вражеского логова, как книжная лавка, где, в свою очередь, смог появиться такой зловредный элемент, как я! Старый хитрый лис, Уча стремится выиграть вчистую сто очков, демонстрируя свою всегдашнюю готовность встать на пути подобных вражеских вылазок и таким образом доказать, что достоин подняться на ещё более высокую ступень в иерархии, к которой принадлежит. Его возмущение наигранно, благородный гнев, которым было проникнуто его выступление, — скорее всего плод творчества секретаря, какого-нибудь неудавшегося поэта, занимающегося подобными экзерсисами под защитой Учиного авторитета. Я для них не важен, но они уже не могут остановить облаву, выгоняющую меня из теплой книжной берлоги. По желтому тару нанесли слитком сильный удар, он слетел со стола и стремительно покатился в темноту кафаны. Все бегут за ним, чтобы вернуть в игру, но он этого не хочет и катится, катится, катится…
Я прикончил вторую бутылку белого, вспоминая в полудрёме великолепное изречение одного венгерского писателя:
«Восточная Европа полна пьяных мыслителей!»
49
Я узнал, что сносится дом, где я родился. Мне прислали приглашение на приём, который по этому поводу устраивает Михайлович-младший, внук Анастаса Михайловича, построившего в начале века это чинное здание и установившего в овальной нише фасада свой бронзовый бюст работы скульптора Джордже Йовановича. Здание это стоит на Дукиной улице. Дукина, 13. Когда я попадаю в какую-нибудь передрягу или собираюсь в дальнюю дорогу, то прихожу сюда, чтобы снова вдохнуть сентиментальную атмосферу своего детства и юности. Если человек не имеет понятия, куда идёт и где в настоящий момент находится, ему необходимо знать по крайней мере исходную точку своего пути. Моя исходная точка — это мощеный булыжником двор, в середине которого растёт ветвистая липа. Это что-то вроде маленькой площади, окружённой с четырёх сторон обветшалыми стенами здания, построенного в дар городу на выручку от продажи пшеницы и свиней, которых на баржах возили вверх но Дунаю на скотные рынки в Австрию. Однажды я увидел этот дом с двадцать четвёртого этажа возвышающегося неподалеку небоскрёба, из окна мастерской одного графика. С высоты птичьего полета этот двор с липой, заросший сад и дом под черепичной крышей среди многоэтажек выглядели странным провинциальным оазисом — последним островком определённого жизненного уклада, обречённого на умирание. Казалось, какой-то чудаковатый этнограф, несмотря на дороговизну здешней земли, решил сохранить эту постройку вместе с её разношёрстным населением, садом, мощеным двором, сквозь булыжник которого пробивается нежно-зелёная травка, вместе с веревками, на которых, как флаги в знак капитуляции перед бедностью, вывешены рваные простыни, вместе с дымовыми трубами, увенчанными птичьими гнёздами, и колодцем в центре этого маленького феода — всё это словно должно служить наглядным пособием для поколений, произрастающих на бетонных паркингах: «Вот так, дети, жили здесь люди, пока Белград не вырос в современный безликий европейский город…» Глядя с высоты на этот маленький зеленый островок посреди высохшего асфальтового озера, я видел далеко внизу и себя самого: худенький мальчик с жидкими соломенными волосами и острыми коленками сидел на ступеньках и читал какую-то потрёпанную книжку. Левое стекло его круглых очков в металлической оправе было заклеено пластырем. Я почувствовал жалость к этому малышу. Судьба к нему и так была не слишком-то благосклонна! Мало ей было бедности, в которой он родился, надо было ещё закрыть ему один глаз пластырем! (Мальчишки меня тогда дразнили Косым.) Сегодня это, конечно, уже не важно, но мне кажется, что из-за того пластыря я никогда не смотрел на мир так, как остальные. Возможно, именно с него началось мое взаимное непонимание с внешним миром, которое со временем превратилось в сознательную тайную войну, наложившую отпечаток на весь мой образ жизни. Во всяком случае, без ложной скромности могу утверждать, что то едва заметное, так и не вылеченное косоглазие мальчика, глотавшего для своих лет слишком много книг, позднее сообщило моему взгляду необычную, скажем так, мягкость. Одна особа, к которой я был весьма неравнодушен, однажды сказала мне, что я всегда «смотрю на неё с какой-то жалостью, будто мне всё про неё известно!»
(«Боже мой, Педжа, когда вы на меня так смотрите, мне хочется плакать, сама не знаю отчего…»)
Вернёмся, однако, к моему родному дому тринадцать Дукиной улице, хранящему память о более чем двадцати годах тихого, уютного житья, детских болезней, мечтаний, весёлых похождений, тайных влюблённостей, наивных пороков. Если смотреть снаружи, это один из бесчисленных белградских домов, где квартиры сдавались внаём, фасад которого с неудержимо осыпающимися лепными украшениями, подобно крепостной стене, надёжно защищает от любопытных взглядов улицы так же, как и старые кованые ворота, для экипажей с чуть приоткрытой маленькой боковой калиткой. С тех пор, как из города изгнали лошадей, большими воротами пользуются редко, их открывают только когда привозят уголь и дрова или когда кто-нибудь переезжает. Но зато, стоит войти во двор, как перед тобой открывается некое подобие примитивного атриума — сцена многолетних дружб и ненавистей, стычек, ссор и примирений, рождений, свадеб и смертей; философская школа давно похороненных и забытых мудрецов, передававших свой богатый опыт, сидя под липой, — клубок человеческих судеб, которые, будучи отделёнными от внешнего мира толстыми стенами и зеленым сводом ветвистой кроны, навсегда остались здесь сгустком своего времени. Расселенный добром ли, силой ли по новым районам здешний достойный люд уже никогда не будет тем прежним, который, правда, мог подраться из-за какой-нибудь ерунды, но при этом был готов и поделиться с соседями всем, что имел, тот, что со страстью участвовал в жизни ближних, но и сам был для всех открыт как на ладони. И этот дом предназначался на слом! Запасясь достаточным количеством сигарет и белого вина, я уселся с пишущей машинкой на кухне и стал яростно выстукивать письмо протеста в «Политику».
50
«Уважаемый товарищ редактор, пишу вам в связи с решением о сносе жилого дома по адресу Дукина, тринадцать. Хочу напомнить, что данное здание построено в 1899 году по проекту зодчего-самоучки из Панчева Теодора Божидаровича. Строителю, конечно, и в голову не могло прийти, что его детище, один из редких у нас памятников в стиле позднего сецессиона, будет перегорожен и поделен на маленькие закутки, что его будут разрушать войны (в которых у нас не было недостатка), бедность, безвременье и случайные жильцы, селившиеся здесь последние полвека в порядке уплотнения. Я это всё знаю. Я в этом доме родился. Но прошу вас, товарищ редактор, понять меня правильно: я маленький человек и у меня нет никакой личной причины бороться за спасение этого здания как будущего памятника культуры, на котором когда-нибудь повесят доску с надписью: „Здесь родился такой-то…“ По правде сказать, в стенах этого дома не родился никто из великих и славных, а мне уже поздно таковым стать. В них рождалась лишь частичка неповторимого белградского духа, если вы понимаете, что я хочу этим сказать. Историки утверждают, что разные завоеватели сорок раз разрушали Белград до основания. Но никто не вспоминает, сколько раз мы его сами разрушали. А ведь, положа руку на сердце, следует признать, что именно потому он имеет такой малопривлекательный вид. Беру на себя смелость утверждать, что это едва ли не самая неприглядная столица в Европе. Но если что-то и выделяет его среди всех остальных городов, делает единственным и неповторимым, так это его дух. Очень хорошо сказал один из известных белградских архитекторов: „B Белграде нет значительных архитектурных памятников — он сам свой памятник!“ Верно. Его дух неуловим. Он материализуется только в редких случаях и в определённых местах. Одним из таких мест, несомненно, является дом номер тринадцать на Дукиной с огромной липой во дворе, где в известные периоды жили в любви и согласии более двадцати семей. Здесь рождались и умирали, здесь корпели над учебниками и оплакивали покойников, отсюда во время войны юные подпольщики, почти мальчишки, шли жечь немецкие грузовики на Автокоманде[28] — одним словом, дом этот делил со своими жильцами и радости, и невзгоды. Я слышал, что на его месте будет построено высотное здание с супермаркетом на первом этаже. Позволю себе заметить, что у нас становится все больше супермаркетов и всё меньше близости между людьми. Мы не птицы, чтобы жить где-то под облаками. Мы хотим почувствовать под ногами землю, которая вернёт нам утраченную силу. Многоэтажки отсекают наши корни. Мы охотно променяли бы супермаркеты на бакалейные лавки, а морозильники на овощные базары. Кто-то мудро заметил: „Лучше жить без квартиры, чем без хороших соседей!“ Что в итоге останется от Белграда и от нас, его жителей? Что останется от нашей духовности, от нашего образа жизни, который мужественно, до последнего вздоха защищался на Дукиной, тринадцать? Я взываю к вам о спасении Белграда от дальнейшего обезображивания, принимающего с каждым днём всё более угрожающие масштабы. Прошу спасти старый дом Михайловича…»