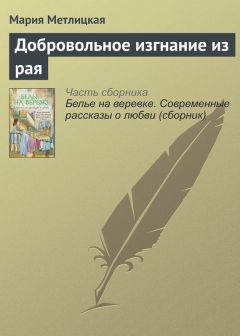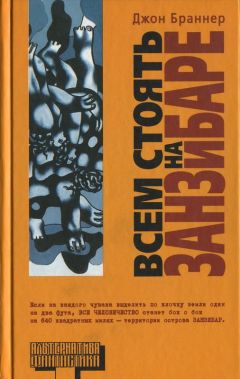Александр Илличевский - Матисс
Под землей он становился слышим самому себе, более себе доступен. Он вслушивался в звуки, которые издавало его тело: дыхание, размыкающиеся губы, подошвы, растирающие каменную крошку, или – хруст и скрип куска растертого мела, шуршание на швах одежды. Крик в туннеле становился как бы его щупом. Попав в незнакомое место, прежде всего он кричал. Эхо – или, напротив, глушь, возвращающаяся ему в уши давала представление о предстоящем пространстве гораздо точнее, чем фонарик. Тем более, фонарик не мог сравниться с криком по дистанции разведки. Звонкий, далеко загулявшийся, но вдруг вернувшийся крик предвещал долгий рукав, просторную залу, наполнение которой тоже можно было оценить по характеру тональных фигур, содержащихся в отзвуке, приходящих в той или иной последовательности – уханье, аканье, баханье. Глухой короткий отзвук – означал тупик или длинный соединительный путь…
LXXVIIЕстественно, почти ничего, что представлял он себе о подземной Москве, что пытался взрастить черноземом мифов или мнимых исследований, – ничего из этого не сбылось, все предвиденья растворились в воронке нуля результата. «Впрочем, – думал Королев, – будущее регулярно перечеркивает суждение о себе. Порой кажется, что научная фантастика только и существует ради незыблемости этого метода исключенного представленья».
Почти все помещения, встречавшиеся ему среди однообразия похожих на залы ожиданья эвакуационных убежищ, или штабов ГО, совпадавших по антуражу с комитетами ВЛКСМ, где он скоро перестал надеяться поживиться консервами или сублимированной картошкой и только пополнял из туалетного крана запасы воды, – все встреченные им казенные интерьеры напоминали ему непрерывный Дом культуры его детства. Предметы и части внутреннего убранства внезапно выплывали из темени, составляя причудливый калейдоскоп. То ему мерещился прилавок буфета, то столы выстраивались рядками, словно бы в читальне, ему слышался запах мастики, сырого мрамора, рассохшихся тканевых кресел и хлипких этажерок, которыми теперь наяву были полны только кадры фильмов о 1960-х годах, решивших квартирный вопрос при помощи хрущевских пятиэтажек и штурма мебельного производства.
Часто он слышал скрип рассохшегося паркета, а споткнувшись – стук выпавшей плашки. Или вышагивал по заглаженному, как стекло, бетону. Иногда позволял себе рисково ускориться, скользнув бедром в темноту по широким перилам просторных лестничных маршей. Повсюду над плечом бежали газетные стенды, плакаты и списки техники безопасности, правил обращения с противогазом; отовсюду выныривали гипсовые усатые или лысые бюсты, попадались «красные уголки» с вырванными электрическими розетками и колонны шахтовых вентиляций, в которых постоянно что-то шуршало, сыпалось, свиристело или задувало с воем, уносившимся далеко вверх или вниз – нельзя было понять, сколько ни вслушивайся, то подымая голову, то опуская, клонясь одним – правым ухом. Попадались также настоящие читальные залы, обставленные этажерками. От красных книг, если разломить посередине, вдохнуть от корешка над глянцевыми тонкими страницами с убористым бледным и неровным текстом, – шел девственный дух клея и типографской краски.
На первый взгляд под землей было не так уж страшно. Кругом он сплошь встречал привычный опыт, привычное прошлое. Только поначалу его забирал увлекательный испуг, будто все его путешествия под землей походили на исследование затонувшего города. Иллюзия эта исчезла довольно скоро, как только он понял, что перед ним все та же Москва, в которой выключили свет и убили всех людей.
LXXVIIIЛишь однажды он наткнулся на ужасное. Это стряслось в одном из нижних павильонов, освещавшихся синюшными больничными лампами. Как правило, это были неясного назначения резервуары, забранные под купол, похожие на вестибюли выхода из метро, с низкими скамьями, расставленными по периметру, как в спортзале. В некоторых он встречал в центре эскалаторный вход, опечатанный ремонтным щитом с эмблемой молнии и черепа.
Так вот, однажды он наткнулся в таком резервуаре на макет Кремля, и оторопел. Это была размером примерно сорок на пятьдесят метров модель, прообраз сжавшегося города, выполненный в точности из тех самых материалов, что и настоящий Кремль. Сначала Королев, не веря, долго рассматривал крохотные кирпичики, ощупывал зубцы стен, башни, пробовал толчком на прочность кладку, до рубиновой звезды на Спасской он дотронулся рукой, и наконец, встав на корточки, решился пролезть сквозь Боровицкие ворота. Как ошалелый, он весь день ползал по Кремлю, ахая перед филигранностью отделки, точностью копии, включавшей в себя подробности интерьеров, которые он мог разглядеть, подсвечивая фонариком, сквозь крохотные оконца; на них были крепко установлены черные, металлические (он обстучал ногтем) решеточки. Он привставал, поводя фонариком по сторонам, подобно луне высвечивая мрачный зубчатый абрис древней московской крепости. Он даже разглядел убранство Грановитой палаты и подзенькал колокольцами на Ивановской каланче… Заснул он в скверике перед Михайловским дворцом. Дотронувшись до флагштока, на котором шуршал кумачовый прапор с осыпавшейся позолотой серпа и молота, он свернулся калачиком, замирая от силы неясных чувств, пробравших его до костей, – и мгновенно заснул от страха. Ночью ему приснился Щелкунчик, его балетная битва с волшебными крысиными войсками происходила по всей территории Кремля. Щелкая страшным зевом, он откусывал крысам хвосты, в которых была их сила. Крысы панически разбегались, но потом догадались поджечь Кремль, и он – Щелкунчик, чурочка – сгорел, в то время как каменный Кремль остался невредим, языки холодного огня не повредили его стены, и Королев проснулся ровно в той же точке, в которой заснул. Шатаясь, выбрался наружу – ив соседнем зале опешил от вида деревянного мавзолея, первой версии 1924 года, с крашенной надписью ЛЕНИН. Сооруженье это, видимо, как домик Петра в Коломенском, разобрали и снесли сюда, в секретный мемориальный музей. Рассохшиеся доски, покосившийся парапет, зевающие кривые ступени. Входить в эту страшную избу он побоялся…
Конечно, ни о каком равном масштабе объема конструкций или о подобии Москвы своему подземному отражению речи быть не могло. По его подсчетам, объем всего грунта, вынутого при строительстве открытой системы метро: 522 километра пятиметровых путевых туннелей, 52 километра эскалаторных спусков и 150 вестибюлей – не превысил бы семи горок, объемом под стать пирамиде Хеопса. Но какой Египет сравнится с Вавилоном столицы?
Тем не менее, обширность потайного метро раздавила его воображение. И не только потому, что лабиринт всегда больше своего развернутого пространства… Да это и не было метро в точном смысле слова. Это была система подземных сообщений, включающая в себя и автомобильные туннели, и водные каналы, не только выполняющие служебные свойства водохранилища, но также и транспортные. А как еще тогда объяснить наличие грузовых понтонных платформ у швартовых площадок, на которых он ночевал, после долгого перехода успокаиваясь мягким журчаньем чистейшей воды и запахом родниковой свежести.
LXXIXО происхождении этих подземных рек Королев мог только догадываться. Подземных речек в Москве хватало, – он не раз прогуливался берегом бурной Пресни от Грузинского вала, минуя резервуары зоосадовских прудов, под Горбатым мостом, по которому грохотала пацанва на скейтах – к устью. Его всегда увлекал вопрос о городской древности, и вообще – доисторичности почв, вод, пород. Он обожал бродить по той же Пресне с факсимильным альбомом Сытина в руках, выискивая унисоны ракурсов, снимая покровы асфальта и прочей строительной белиберды, пристальностью взгляда выстраивая на Шмитовском проезде распутицу тракта, вихляющие телеги, мохнатых тяжеловозов, линейные ряды рабочих бараков, мусорные горы, сарай, полосатую будку заставы, шлагбаум. Лихая Грузинская улица освобождалась от оков тротуаров, треугольной бессмыслицы Тишинки, речка Пресня, набравши ходу от Бутырского леса, порожисто сбегала по ней мимо бревенчатой россыпи Грузинской слободы, собирая купальни, портомойни, мостки с бабами, орудующими вальками, гусиные снежные заводи, лопочущую мельничку перед плотиной, со стеклянным ее занавесом, ниспадающим на бегущие в радуге, в брызгах плицы; кожевенное хозяйство, смердящие сараи которого располагались ближе к устью…
Или того хуже – устремленность к доисторичности, к истоку, в котором интуиция, исполнившись жути, отыскивала будущее, – обосновывала в его размышлении застывшую линзу моря юрского периода. Из этой линзы двухкилометровая скважина обеспечивала свежей морской водой дельфинарий на Мироновской улице в Измайлове. Из него – глубинного резервуара, запаянного глаза древнего океана, хранившего свет еще молодых, только зарождаемых, или уже потухших звезд, – он напитывал воображение размыслительным беспокойством, упруго упиравшимся в невозможность ответа. Подспудная эта борьба была безнадежна, но продуктивна. Как раз она и выработала в нем понимание (так подневольный напрасный труд сообщает мышцам массу и твердость), что мир был создан вместе с человеком. Что все эти сотни миллионов лет хотя и имеют длительность, но они суть точка, «мера ноль» – несколько дней посреди течения плодородной вязкости человеческого зрения, его воплощенной в свет мысли. Что длительность доисторических миллионолетий фиктивна – подобно длительности угасшего сновидения, подделываемого исследовательской скрупулезностью припоминания.