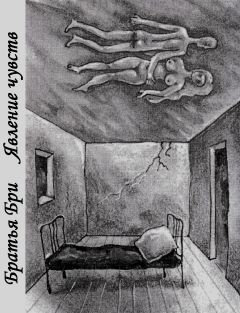Адам Торп - Правила перспективы
Наверное, он сошел с ума. Сейчас они ровняли с землей его родной город. Такое слабой волной не назовешь.
Он остановился у мраморного истукана, «Дерзкого», охранявшего вход в библиотеку; изваял его не кто иной, как сам Вилли Меллером. Про себя герр Хоффер называл истукана Троцким. Несколько раз он заставал здесь Хильде, делающую наброски его стоп, бицепсов, гротескно натянутых жил. Надо признать, ее присутствие в этот последний год заметно прибавило бодрости его походке по утрам, когда он отправлялся на работу. Впрочем, герр Хоффер даже и не думал волочиться за ней. Просто восхищался ею, вот и все. В ней соединились красота и юношеский интеллектуальный пыл. Что она могла видеть в этом уродце, было выше его понимания. Партия владела всеми ее помыслами, как какой-то демон-инкуб.
Доступная исключительно ученым библиотека, в которой хранились старинные тома вплоть до выпуска 1850 года, стояла, как амбар без единого зернышка — только полки оставались на месте. Но пахло здесь как прежде — кожей и воском. Выставочные залы были пусты, как голова, лишенная мыслей, в библиотеке же до сих пор ощущалась концентрированная, как крепко стиснутые зубы, напряженность тишины.
Вот только фюрер смотрел сердито. Огромная фотография висела над столом Вернера, хмуро глядя на длинные пустые столы, отчего герр Хоффер чувствовал себя самым ничтожным ученым в мире. Раскусить Вернера Оберста — на чьей тот все-таки стороне? — ему так и не удалось. Да и сторон уже не осталось, только одна, последняя, как тюремный застенок.
Бомбардировка приутихла. Герр Хоффер непроизвольно сжался в ожидании внезапного мощного взрыва. Затишье страшнее бомб.
По своему обыкновению, он воспользовался библиотечным туалетом. В его служебном слишком тонкие стены, туда доносилось, как фрау Шенкель стучит на машинке, как будто она сидит рядом. "Только для сотрудников библиотеки". Маленькая комнатушка позволила ему вздохнуть свободно сама по себе, еще до того, как он последовал зову природы, да и геморрой сегодня скорее напоминал о себе, чем мучил. Как хорошо побыть одному и расслабиться. Ходит ли Гитлер в сортир? Представить не получилось.
Даже надписи на стенах были учеными — на латыни, греческом, английском или французском.
Quas dederis solas Semper habebis opes.[19]
Марциал.
J'en ai trop prolongé la coupable dureé.[20]
Расин.
Что-то из Талейрана, зачеркнутое.
Бумаги не оказалось. Он проверил, какого цвета испражнения (черные), и дернул за цепочку. Воды тоже не было, даже в кране. Герр Хоффер удивился, глядя на себя в зеркале: редеющие волосы торчали в разные стороны. Пена для бритья у него кончилась, и Сабина просто подстригала ему щетину тупыми ножницами. Сняв очки, он сжал лицо руками, разглаживая фиолетовые мешки под глазами, складки у носа, морщины вокруг губ. Ранки от крошечных осколков покрывали все пунктиром черных точек; когда дотронулся до лица, стало больно. Постоянный голод сделал его похожим одновременно на мальчишку и старика. Он вернул очки на место и замер на мгновение, словно позируя для портрета.
Портрет мужчины, 1945
Масло, дерево, 25,6 х 30,4
Из частной коллекции.
Свет падал на лицо с одной стороны, разделяя его, как в географическом атласе, на две части по контуру носа. Художник выхватил лицо быстрыми, крупными мазками, нет, тонкой, методичной кистью старого фламандского мастера. Дамы и господа, обратите внимание, как удалось виртуозно владевшему кистью портретисту передать живой блеск глаз изображенного мужчины, открывая нам глубокий мир его души.
Герр Хоффер улыбнулся уставившемуся на него живому портрету. Когда закончится война, он будет рисовать! Он посвятит себя искусству, даже если его назначат директором! Карандаш, мел и акварель — его любимое сочетание. Ах, если бы в юности он и в самом деле погрузился в истинно богемную жизнь, если бы он чистил картошку на ужин где-нибудь на чердаке в Берлине, мылся в металлической ванне и сушил рубашку на крыше!
В этом маленьком туалете он чувствовал себя в безопасности. Бомбежка утихла. И вдруг по спине пробежал холодок. Вернер расскажет американцам про Тенирса. Венера восстанет из воды мокрая и голая — и возьмет за руки Вернера Оберста. Вернер, обладатель безупречной во всех отношениях репутации, опишет все подробности сговора и. о. и. о. директора и жирного партийного чиновника, фигляра Феста.
Послушают ли они его? Могут. Из лагерей вернется достаточно людей, способных заменить и. о. и. о. директора. Евреи, например. Американцы будут из кожи вон лезть, только бы возместить нанесенные евреям обиды. Сам факт, что благодаря чудесам изворотливости он остался на своем посту, может сыграть против него. Глубоко в душе они будут завидовать его ловкости, его отваге и попытаются уничтожить его, обвинив в сговоре и предательстве. Его волновали только Музей и его фонды, как капитана корабля волнуют только корабль, команда, пассажиры и груз. Но хватит ли этого, чтобы противостоять лицемерным изгоям, их сокамерникам и мстительным евреям — тем, кто либо сбежал, спасая свою шкуру, либо по неосмотрительности подвернулся под руку партии?
Из зеркала на него смотрело болезненное, отчаявшееся лицо. Запах нечистот перебивал даже его собственный запах; наверное, прорвало трубу. Он смотрел, как отражение одними губами произносит слова, как в немом фильме: красота — это все, что я хотел от жизни. Неужели в красоте нет нравственной силы? Кант, например, считал, что есть.
Теперь он стал похож на клоуна, страшного клоуна из кабаре с белым лицом и черными губами. Кант не придал лицу ни капли достоинства. Внезапно оно дернулось в удивлении: в окошке матового, ребристого стекла мелькнула тень чего-то огромного.
В удивлении он замешкался, наконец с трудом распахнул ставни и увидел край огромного, закрывавшего стену полотнища, хлопавшего на ветру.
Это была красная растяжка со свастикой, выходящая на Конт-фон-Мольтке-штрассе. Часть креплений сорвало ветром. Когда он попытался поймать ее за край, ветер хлестнул его тканью по лицу, угодив в глаз. На длинной улице никого не было, обшарпанные дома — в основном склады — стояли совсем неповрежденные. Наверное, все попрятались под землю.
Он закрыл окно и потер заслезившийся глаз. Растяжку необходимо снять, иначе американцы могут расценить ее как вызов. Но кто сейчас возьмется за такое дело? От этой мысли засосало под ложечкой. Разрыв минометной мины неподалеку объявил о возобновлении бомбардировки. У мин словно был разум — они вели себя как людоед, пожирающий добычу.
Выйдя из туалета, он миновал мозаику Тома и двинулся к лестнице. Можно исполнить свой долг и проверить верхние этажи, раз уж он здесь. Работа отвлекала от мрачных мыслей. Он прошел мимо великолепной глазированной аллехской доярки в нише-раковине на полпути вверх — подарок самого рейхсфюрера СС Гиммлера через оберштурмбаннфюрера профессора Дибича, ведавшего фарфором из Дахау. Ожидалось, что в качестве ответного дара музей выставит один из его чудовищных пасторальных пейзажей, что и было сделано. Во время эвакуации герр Хоффер оставил доярку в музее и даже подвинул ее к краю; с каждым сотрясением она оказывалась к нему все ближе. И ближе.
Милая маленькая доярка упадет и разобьется. И обретет свободу.
Внезапно закружилась голова. Герр Хоффер добрался до верхнего пролета и присел на мягкой лавочке рядом с мраморной «Зарей». Тяжело дыша, пощупал пульс. Неровный. Значит, не сердце, а приступ тревоги. Герр Хоффер сделал несколько дыхательных упражнений, которым Сабина научилась в гимнастическом зале. Умереть рядом с «Зарей» было бы чудовищно. Этот образчик халтуры сотворил Томас Ротман, ученик Климша, из молодых, да ранний. Соски-пули нависали над тонкой талией, начищенные руками посетителей, как дверные ручки. Другой эротической партийной скульптуры герр Хоффер не знал, за что ненавидел эту еще больше.
Он опустил руку ей на плечо. Естественно, холодное.
Ах, Сабина, моя нежнейшая возлюбленная. Ты никогда не бываешь холодной.
Мама, папа — вы позабыли меня? Пожалуйста, не забывайте. Я больна. Вы еще не пожелали мне спокойной ночи. Кто-то идет сюда, как в дурном сне. Может, он опять покажет мне язык, и язык распустится как цветок или вытянется в жало, чтобы меня ужалить. Когда я смотрю в зеркало, озеро очень глубокое. Вот почему мне нельзя оставить зеркало.
30
От женщины шло тепло.
Она была в шоке и конечно же сама этого не сознавала. Шок — штука коварная. Будь ты хоть капрал армии Соединенных Штатов, ни за что не догадаешься, что ты в шоке.
Перри вытащил ее из глубины отчаяния на поверхность. Сядь, успокойся, вот на этой деревянной балке, что лежит почти горизонтально, тебе будет удобно. Но женщина стояла, вцепившись в него мертвой хваткой, и все повторяла свое имя — Frau Hoffer, Frau Hoffer; и в конце концов он уселся первым, потянув ее за собой.