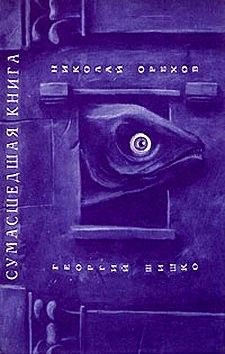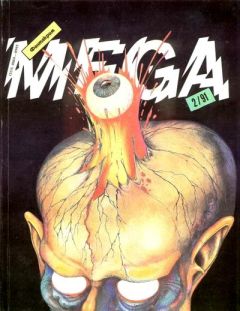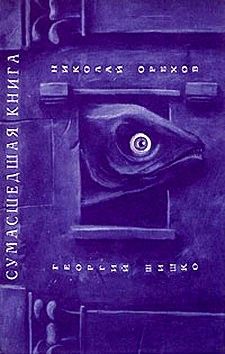Юрий Герт - Лабиринт
— ...Так это правда?
Теперь я вижу близко ее лицо, губы в мелких трещинках, легкую синеву под глазами. Но что-то еще изменилось в нем. Что-то неуловимое изменилось в Машином лице — и я смотрю на него, как на чужое, не ее лицо. Что-то отрешенное есть в ее напряженном спокойствии.
— Ты сам был там?
— Да.
— Когда это случилось?
— Не знаю точно. Часа в три. В четыре. Не все ли равно.
— Нет, не все равно...— говорит она медленно, думая о чем-то.— Хотя в общем-то теперь это все равно.
Она смотрит куда-то мимо меня.
— Ничего удивительного!..
Это Варя. Она стоит поблизости от нас, и сквозь приглушенный шум отчетливо прорывается ее громкий, убежденный голос.
— Я и раньше подозревала, что тут не все чисто!
— Праведница,— бросает кто-то.
Варя вскипает:
— Во всяком случае, не такая, как те, что бегали по редакциям!..
Она чувствует, что права, неопровержимо права, и остальные чувствуют это. И смолкают. В самом деле, как будет с теми, кто подписывал «опровержение»?..
— Что же дальше?— Маша по-прежнему смотрит мимо меня. Она не ждет ответа.
— Надо быть принципиальными не на словах, а на деле!— говорит Варя.— А кое-кому еще придется ответить! Кое-кому!
Маша поднимается и медленно идет к своему месту.
Не доходя до него, она останавливается нерешительно, как бы не зная, останавливаться или нет,— останавливается возле Вари.
— Ну и дрянь же ты, Пичугина,— говорит она спокойным, ровным, беззлобным голосом.— Ну и дрянь.— И проходит дальше.
— А с тобой мы еще поговорим, Иноземцева!— несется ей вдогонку. Светлые Варины глаза брызжут искрами. — Ты еще ответишь — и за свое поведение, и за все!..
У Вари над ухом расплелась косичка, она воинственно торчит вверх, как пика, и вздрагивает от ярости, это смешно, и все смотрят на косичку, но никто не смеется.
* * *
Уже потом, роясь в памяти, распутывая события этого дня, я неизменно упирался в разговор, который вспыхнул после лекций в коридоре, но вскоре мы забрались в дальнюю аудиторию, чтобы нам никто не мешал.
Мы сидели в пустой аудитории на третьем этаже, и окна, заросшие мохнатым нетающим инеем, сначала просвечивали багрянцем, потом повишневели, потом на стекла легла плотная синева, и к тому времени паузы между словами сделались долгими, томительными, наполненными сознанием тупика.
Что делать? Что мы должны, что можем сделать? Что?..
Планы, которые возникали у нас вначале, теперь казались нам чересчур наивными или заведомо обреченными на провал. Но мы не могли разойтись, так ничего и не решив. Мы чего-то еще искали, каких-то ответов,— искали или только обманывали самих себя?
— Ну, хорошо,— сказал Олег,— допустим... Но чего вы добьетесь? Вам припомнят все, что было и чего не было. Вас вышибут из комсомола. Вы распрощаетесь с институтом. Это в лучшем случае. В самом лучшем, заметьте.
Он пришел вместе с нами, но я был заранее не согласен со всем, что он скажет,— заранее не согласен. Хотя сказал он это просто, без обычной своей усмешечки, сказал, в сущности, то, что просто не решались высказать остальные,— есть вещи, которые легче услышать от другого, чем произнести самому.
Ему никто не ответил. Только Рогачев сердито прокашлялся, выдавив застрявший в горле комок, и зашаркал ногами в темноте.
Странно, я лишь теперь вдруг подумал, что ведь это та самая аудитория, где я отыскал Машу после конференции по педпрактике, после ее стычки с Вероникой Георгиевной Тихоплав,— она сидела на подоконнике и плакала. А потом сюда ворвался Сашка Коломийцев и заорал: «Сизионов приехал!»— и была торжественная встреча, и знаменитый банкет, с которого все началось...
И вот мы в той же аудитории, такие же сумерки, доска зияет черным провалом, только на подоконнике, там, где сидела прежде Маша, сутулится Полковник, упершись локтями в колени и зажигая сигарету за сигаретой, а Маша сидит у преподавательского стола, сбоку, стиснув ручку портфеля, сосредоточенная на чем-то своем, всех слушая и никого не слыша...
— Что же,— сказал я, повернувшись спиной к Олегу,— вот мы и нашли выход. Отличный выход. Вполне безопасный выход. По крайней мере — для нас. Ну, а как быть с Сосновским?
— По-моему, мы и говорим о Сосновском,— сказал Олег.
— По-твоему,— сказал я.
— Черт! — внезапно взорвался Сергей. Он вскочил, с грохотом отшвырнув стул.— Черт! Но ведь не могли же его так, ни за что ни про что...
— Это Гошин,— отозвался Дима глухо.— Рубите мне правую руку, если это не Гошин, вот что я вам скажу.
— А хоть и Гошин,— все равно, должно же что-то быть!.. Ведь не кого-то другого, а его, именно его...
Голос у Сергея был громкий, но какой-то потерянный, совсем не таким голосом рассказывал он, как они ходили в редакцию.
— Почему же — ни за что ни про что, — сказал я очень спокойно. Я все время вышагивал от окна к двери, от двери к окну, но тут я замедлил шаги и стал приближаться к Сергею.— Почему же вдруг — ни за что, ни про что? А безыдейные лекции, а тлетворное влияние на молодежь, а подвергнутый острой принципиальной критике порочный сборник, а разоблаченные в «Уроках Бориса
Александровича» взгляды, которые чужды и так далее... Просто удивительно, какой ты до сих пор был не бдительным человек, Караваев!
— А ты не смейся!— крикнул он.— Ты газеты читаешь?..— Теперь мы стояли совсем рядом, и глаза его были совсем близко — большие, круглые.
— Ага,— сказал я еще спокойнее и совершенно четко представил, как в следующую секунду ударю его,— ага, все мы иногда читаем газеты, ну, и что дальше?
— А то! А то, что и тем, в Москве, тоже верили!.. А они!.. А Гошин — секретарь партбюро, и он просто так не станет!..
Ладонь у него была железная, точнее — ребро ладони, Полковник рубанул ею, как металлической пластинкой, по моей руке. Я даже не заметил, когда он успел очутиться между мной и Сергеем. Я отошел к доске, зачем-то подул на руку и мне стало смешно.
— Ну? — сказал Полковник. Теперь он стоял на моем месте, так близко к Сергею, что лбы их, наверное, почти соприкасались.— Ну, а что ты еще скажешь?
Так они постояли, дыша друг другу в лицо, оба — плотные, коренастые, Полковник только чуть пошире в плечах, потом Сергей отступил и бухнулся на стул, а Полковник вернулся к окну и закурил новую сигарету.
— Ничего не поймешь...— виновато бормотнул Сергей.— Черт...
— Извини,— сказал я.
Все молчали.
Да, подумал я, сунуть Сереге в морду — это ты можешь, Сереге, который собирал подписи, бегал в редакцию и все-таки пытался что-то сделать... Ну, а что ты еще можешь?
По коридору затопали, потом кто-то торкнулся в дверь, которую мы заложили изнутри стулом.
— Закрыто,— разочарованно произнес ломкий басок.
— Там уже кто-то есть,— отозвался девичий голос.
— Никого здесь нет, просто закрыто,— упрямо возразил басок, но на всякий случай крикнул в замочную скважину:— Счастливо оставаться, голуби!
Шаги весело простучали дальше,
— Слушайте,— сказала Маша, не поднимая головы,— почему вы молчите?
Это были ее первые слова за весь вечер.
— Надо куда-то идти, что-то делать, ну что же мы, так и будем тут сидеть?..
— Куда?— спросил я.
— Не знаю.— Голос ее звучал совсем тихо,— Но вы же сами предлагали: можно обратиться в горком, в обком. Написать в Москву, наконец. Я знаю, так делают. Ведь нам ничего не нужно, кроме справедливости...
— Это не так уж мало,— сказал Олег.— Хочешь звать, что скажут в любом месте? А знаете ли вы, за кого заступаетесь? И почему мы вам обязаны верить? Кто вы такие, чтобы вам верить?
— Люди,— сказала Маша,— Если нам не поверят, пусть спросят других.
— Других? — сказал Олег.— Мы все уже видели этих «других». На кафедре.
Все мы помнили кафедру, он мог бы и не напоминать.
— Тогда прямо туда... К тем, которые его арестовали. Пойдем и расскажем все, что знаем о Борисе Александровиче...
— Туда без особого приглашения не ходят,— сказав Олег.
— А мы пойдем!— сказала Маша с ожесточением и подняла голову. В темноте я плохо видел ее лицо, но голос ее так вздрогнул, что я почувствовал, как ненавидела она в этот момент — не только Олега, а всех нас.— Я знаю, вы думаете, я девчонка, глупая девчонка, и ничего не понимаю! Ну хорошо, пускай вы правы, но вы-то сами? Вы?..
Теперь в ней снова проблеснуло что-то от прежней Машеньки, и я вдруг подумал: все решает стечение обстоятельств, но разве мы знаем все обстоятельства? Мы хотим все предугадать заранее, но на тысячу предвидимых обстоятельств всегда есть хоть одна случайность, и она может все решить!
— Нужно не рассчитывать,— сказал я,— нужно действовать. Просто действовать — и все.
— Да,— сказала Маша,— это самое ужасное — человек тонет, а мы стоим на берегу и рассуждаем.
— Да,— сказал Полковник, и сигарета ярко вспыхнула у него в руке.— Броситься в воду — это проще всего. Только надо еще и уметь плавать. А то и сам потонешь, и человека не спасешь.