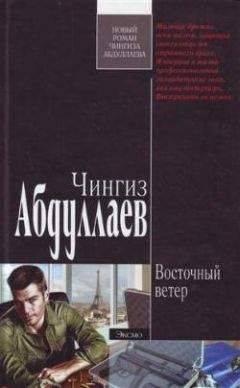Пьер-Жакез Элиас - Золотая трава
Колющая боль меж ребер Пьера Гоазкоза раскололась на неравномерные колики. Теперь ему уже не до этого. Он изумляется ясности мыслей, которые придала ему агония, обострив все его чувства. Значит, правильно, что некоторые умирающие лучше постигают окружающий их мир, чем существа, полные жизни, которые смотрят на них, выжидая, когда они скончаются. Пьер Гоазкоз принюхивается. Он медленно поводит головой справа налево, чтобы подставить свои щеки малейшим колебаниям в настроении небес. Ветер вот-вот проснется. Он даже довольно быстро крепчает. И «Золотая трава» на еще не определившемся морском волнении приходит в движение, начинается бортовая и килевая качка. Травель-мачта вибрирует. Где единственный из оставшихся у них парусов? О нем совсем позабыли. Пьер видит его запихнутым под свою банку. Его можно прикрепить к мачте. Хорошо, очень хорошо. Моряк изо всех сил напрягает слух. До него достигает еще очень слабый, глухой шум. Голос рифов. Скоро он сможет их распознать, точно определить, где находится. Разве не обещал он своим людям доставить их на сушу! На последней фразе Яна Кэрэ Пьер падает там, где стоял. Все его тело разом причиняет ему невыносимые страдания. И все же, собравшись с силами, он издает радостный крик, который тысячелетиями раздается на обезветренных морях:
— Ветер поднимается! Будьте начеку!
Команда не сразу реагирует. Ни одно лицо не повернулось к капитану. Да услышали ли они его? А этот крик ведь потряс его всего — чуть ли не стоил ему последнего дыхания. Находятся ли они все еще под чарами этого странного рассказа, который исторгся из уст тени? А ведь не было в этом рассказе ничего такого, что могло бы их слишком затронуть. Он же их знает, знает, что они способны вести двойную жизнь, какую вел он сам, — стремиться все время к таинственным странам, какие рождало их воображение, и безупречно выполнять свои обыденные обязанности, первая из которых — подчиняться хозяину судна. Если бы дело обстояло не так, никогда их сабо не ступили бы на борт «Золотой травы». Что же с ними, однако, происходит? Ветер приближается, а теперь они, в свою очередь, окаменели.
Не осмеливаются они, что ли, поверить в это возвращение жизни? Но хоть и медленно, они все же задвигались. Тогда он понял, что они одновременно с ним принюхивались и присматривались к первым признакам жизни на море. Если они запоздало задвигались, так это потому, что они удерживали свое дыхание, из страха пресечь ненадежное веяние с небес, вызванное, возможно, дыханием рассказчика. Они все еще чувствуют себя несколько неуверенно, не вполне представляют себе, что надлежит делать, ждут точной команды. И она воспоследовала.
— Поднять паруса!
Тут и началась суматоха. Все, толкаясь, рвутся одновременно прикрепить лохмотья паруса к травель-мачте, с дикарской надеждой, что это их сдвинет с места. А парус раздувается, вспучивается и наконец вбирает ветер. И весь корпус судна трещит. Штурвал подрагивает… Пьер Гоазкоз берет его на себя, чтобы люди тверже себя почувствовали на ногах. Неясные выкрики, радостные проклятия, смех, похлопывание по плечу. На носу Ян Кэрэ открывает объятия звездам и рычит:
Глава восьмая
— Отец! Отец! Мы отыскали наш полотняный замок, благодарение богу!
Омлет удался на славу. От него не осталось ни крошки.
Потом Мари-Жанн Кийивик поднялась на чердак и вернулась оттуда, доверху наполнив фартук яблоками. Среди них были большие ярко-румяные, из того зимнего сорта, что идут на яблочный пирог.
Все мужчины в семье Дугэ любили такой пирог, сказала мать, и когда яблоки эти кончались, они впадали в тоску, которую она быстро исцеляла, приготовляя им пирожное «наполеон». Мужчины! Все они — лакомки, даже те из них, кто отрицает это, утверждая, будто бы, наоборот, это — одна из милых женских слабостей. Не нужно им верить; разве я не права, Элена Морван? А Лина Керсоди, которая содержит гостиницу, тоже может небось припомнить по этому поводу столько историй, что могла бы не закрывать рта до завтра, чтобы подтвердить правоту сказанного Мари-Жанн — а разве можно бы было поступить иначе! Нонна Керуэдан должен был отведать, несмотря на его протесты, самое большое из всех принесенных яблок. И пока он прилежно разделывался с этим доказательством, вредным для его сведенного желудка, три женщины по очереди весело шутили по поводу изображаемых им гримас старой кошки, которые он корчил, чтобы развеселить их. Пока длится эта игра, а это была именно игра для всех четверых, пройдет какое-то время, и можно избежать разговоров на темы, возврат к которым грозил возобновить смертельное беспокойство. Элена Морван одним своим присутствием и своими словами удерживала драму на расстоянии, но как долго сможет длиться ее благотворное влияние. Старый Нонна изо всех сил старался помочь ей.
В фартуке у Мари-Жанн было много и других яблок. Некоторые из них сморщились, съежились, на вид стали совсем некрасивыми, но чувствовалось, что они еще вполне пригодны для еды. Когда Элена, первая, взяла одно из них и вонзила в него зубы, рыжая зернистая кожа сдалась еще до того, как брызнул сок. И тотчас же лицо Элены исказилось, возле рта и глаз образовались морщинки. Сколь ни привыкла эта женщина к диким ягодам, к кислым грушам, которые имеют кличку «жандармы», и безымянным яблокам, растущим на свободе, никогда не обихаживаемым, которые сморщиваются, не успев вызреть, это яблоко оказалось настолько кислым, что она не смогла удержаться от гримасы. Одним махом откусила она четверть яблока. Все видели, как она старательно пережевывала яблочную мякоть; трое остальных не сводили с нее глаз. Лицо ее уже опять светилось. Мгновение назад ей казалось, что мужество вот-вот покинет ее, но обжигающий сок плода освежил ее, придал ей новые силы.
— Не хочу обидеть вас, Мари-Жанн, — сказала она, — но это яблоко подходит мне куда больше всех остальных.
Мари-Жанн шумно выразила свой восторг.
— Так ведь и мне тоже, Элена. Зимние яблоки мы оставим для мужчин. Я всегда так поступала в этом доме. Старый лакомка Нонна не съест же их все в одиночку. Вы меня слышите, Нонна?
— Я отлично вас слышу.
Он закрыл свой нож, помогший ему расправиться с яблоком, раскусить которое было не под силу его старым зубам, он ведь был не способен даже и надкусить его, как это сделала Элена. Быстро поднявшись с лавки, чтобы выбросить яблочный огрызок в огонь, он вернулся на свое место, потирая руки и беззвучно шевеля полупустыми своими челюстями. Кто сумел бы прочитать, что беззвучно шепчут его губы, услышал бы лишь одно: «Золотая трава», «Золотая трава», «Золотая трава». Возможно, что Элена, не спускавшая с него глаз, пока дожевывала яблоко, сумела прочитать, что шепчут его губы. Мари-Жанн Кийивик не сводила глаз с Лины Керсоди, которая покорно и молчаливо сидела на краю скамейки.
— Я вам очищу одно из этих самых яблок, Лина. Вы тоже попробуйте. Кожа у них грубовата для непривычных. Когда Ален Дугэ был маленьким, я ему давала очищенное яблоко, а сама съедала кожуру. И оба мы были вполне довольны.
— Предпочитаю съесть его таким, как оно есть, Мари-Жанн Кийивик. Могу вам тоже кое-что рассказать. Ален Дугэ и я, возвращаясь вместе с уроков катехизиса, бродя в окрестностях, не раз и не два собирали такие яблоки. И мы съедали их целиком, с кожей и зернышками, даже не потерев предварительно о рукав, чтобы очистить их от пыли. Вот видите!
— Ну и ну! Он никогда мне не рассказывал ничего подобного, этот шалопай. Люди никогда не знают, что вытворяют их дети. В добрый час, дочь моя.
Лина уже завладела яблоком. Теперь посмотрим, что произойдет. Прекрасные свои зубы она вонзила в яблоко, и его сердцевина исчезла прежде, чем разглядели, какого она цвета, и девушка не замедлила продемонстрировать хвостик фрукта, зажав его между двумя пальцами. Это было все, что от него осталось. Лина Керсоди была счастлива, что включилась в общую игру, в особенности, когда Элена взяла ее за руку и крепко пожала. А, двое других, после этого подвига, уже смотрели ей прямо в глаза. И она почти перестала чувствовать себя виноватой.
Все принялись говорить о чем придется. Попросили Элену рассказать в подробностях об ее жизни среди холмов — в глубине страны, где она родилась. Для тех, кто слушал ее рассказ, холмы были за сто лье, их обитатели имели озадачивавшие привычки; все же эта женщина, которая впервые в жизни оттуда спустилась и была теперь перед ними, одетая не по такой моде, как принято у них, говорящая на их языке с большей жесткостью в акценте и употребляющая некоторые непонятные им слова, о значении которых они не осмеливались спросить, эта женщина, в сокровенной своей сущности представлялась им столь сильной, что они гордились ее присутствием в их среде, как некой родственницей, более высокого, чем они, ранга. Они позабыли об ее бедности, такое сильное впечатление произвело на них то странное сияние, которое излучала ее личность, внушая им еще более странное душевное благорасположение. Когда она останавливала свой рассказ, они в один голос просили ее продолжать, задавали ей различные вопросы — им было страшно вернуться к действительности, если бы умолк этот голос, низводивший на них благодать. И ей еще приходилось просить у них прощенья, что она, одна-единственная, без умолку трещит, упрекать их, что они ей не рассказывают о своей каждодневной работе, а ей бы хотелось в обмен на свои признания услышать такие же и от них. И Мари-Жанн Кийивик объявила, что она надеется долго не расставаться с Эленой Морван и у той еще будет время узнать все об их жизни на берегу. Она дошла даже до того, что обещала, несмотря на свой возраст, поехать к ней в ее горы! Что же касается Нонны Керуэдана, то он заявил, что его болтовня может быть интересна разве что мужчинам и может раздружить его с Мари-Жанн. Тогда эта последняя, желая ближе познакомиться со своей будущей невесткой, спросила: «А вы, Лина?». Лина не заставила себя долго просить и рассказала, как ведутся дела в отеле-ресторане. Она пересказала разные новости, услышанные из уст проезжих коммивояжеров, описала, как выглядят некоторые из них, весьма забавные личности. Она была достаточно наблюдательной, дочь Лик Малегол, и рассмешила всех присутствующих, рассказав о последнем приключении Жоза-из-табачного-киоска с его капризным автобусом. Но она скоро опять передала слово Элене Морван. Ей так же, как и всем, хотелось укрыться в ее уравновешенности.