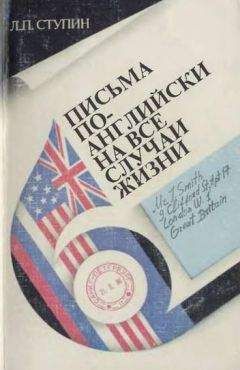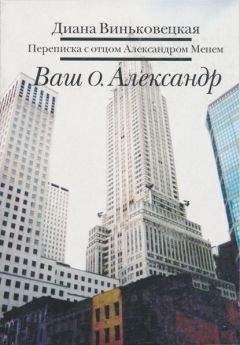Мулуд Маммери - Избранное
Берегись! Культура — она ведь ни на чем не держится. Это лишь тонкий и ломкий налет на прочном фундаменте варварства. Нельзя дуть на него слишком сильно! Достаточно нескольких дней, чтобы медленно воздвигаемое строение ясности, разума, гуманности рухнуло. Еще немного, и ты, подобно всем, станешь участником пляски — либо в узком кругу тех, кто играет на барабане или на скрипке, либо среди великого множества тех, кто надрывается на танцплощадке и двигается только в такт.
Участники бала кажутся смешными паяцами лишь тому, кто глядит на них издали. Но как только ты входишь в толпу, ты сразу же становишься участником пляски, начинаешь с того, что пытаешься уловить ритм, а кончаешь исступлением и уже не замечаешь безумных отблесков во взглядах других, потому что у тебя в глазах такие же.
Пока еще ты в самой начальной, любительской стадии, когда в смешанных туманах обмана, бегства, поисков символов и эмблем рождается легенда. Но если ты не будешь сопротивляться, ты вместе с другими скоро перейдешь на высшую ступень, когда глаза закрыты, чтобы не видеть или видеть все в голубом свете, — ступень намеренного искажения событий, их эпохального возвеличивания и артистического маразма. Знаешь, скоро будет рождаться слишком много поэтов, этих изысканных, узаконенных обманщиков, певцов гармоничного вранья. Платон изгнал их из города. Хватит того, что народ укрощают. Пытаться сверх того еще и одурачить его, убаюкать, добавить к жандарму шарлатана — значит презреть в народе самого себя, ибо это значит презреть саму человеческую сущность. Я знаю, Платон делал вид, будто не ведает, что людей обман привлекает больше, чем истина, и знаю, что бывают такие обездоленные эпохи, когда толпы взывают к басням, как иссохшая земля к росе.
Что поделаешь! Для умов высокого полета достаточно холодного веяния разума. Они не поддаются смутным побуждениям инстинкта, равно как и соблазну общепризнанных истин, вбитых в сознание, как клинья в дубовое полено…»
Башир запечатал письмо, включил «Телефункен». Приемник застрекотал:
«Силами порядка обезврежено тридцать мятежников…»
Резким движением Башир Лазрак остановил журчание голоса. С исчезновением островка приглушенного света, окружавшего приемник, темнота стала еще плотнее.
Политика… Это, может быть, и смешно, но, когда игра заходит слишком далеко, «Франция-5» насчитывает трупы десятками, и это подхватывают все радиостанции мира.
В дверь тихонько постучали. Конечно, вернулась Клод. На этот раз он просто выставит ее вон.
Он рванул дверь, чуть не сорвав ее с петель. Маленький, тщедушный подросток, угреватый, с непомерно большой головой, прижался к стене, на нем было старое, слишком широкое пальто до щиколоток. Вид неуклюжий и в то же время решительный. Галстук. Начищенные ботинки. Мелкий служащий, небогатый и аккуратный.
— Доктор Лазрак?
— Да, это я.
— Простите, что беспокою вас… Но дело срочное. Можно войти?..
Он проскользнул за хозяином, прежде чем тот пригласил его.
— Меня зовут Арезки. Мой дядя всадил себе пулю в ногу… из охотничьего ружья… Да, оно было заряжено пулями… На кабана.
— Пуля в ногу… на охоте за кабаном?.. — сказал Башир.
— Правда, это немножко далеко отсюда, четырнадцать километров. Но у меня машина.
— Четырнадцать километров? А других врачей нет?
— Нам о вас говорили… Рамдан, учитель, знаете?
Маленький служащий, робкий, но решительный, дергал пуговицу своего пальто.
— И потом, нам нужен врач-мусульманин, обязательно!
Часы пробили половину. До начала комендантского часа оставалось всего тридцать минут. Башир вошел в ванную, побрызгал на себя духами, раздвинул шторы, чтобы посмотреть, не слишком ли много патрулей на улице.
— Учитель сказал: «Доктор Лазрак не откажется выполнить свой долг врача и алжирца».
Маленький служащий перестал теребить пуговицу и посмотрел Баширу в глаза. Башир подумал: «Если я впутаюсь в это дело, я уже никогда не буду принадлежать самому себе». Он резко поднялся.
— Видишь ли, брат, сейчас половина десятого. Мы не успеем даже доехать туда. Но я дам тебе рекомендацию к моему коллеге.
— Доктор, если бы вы сами…
— К сожалению, брат, сам я не могу.
Маленький служащий покраснел, встал.
— Тогда ничего не поделаешь. Спасибо и на том. И… Извините за беспокойство.
Он выскользнул в полуоткрытую дверь и, прежде чем спуститься по лестнице, огляделся в коридоре по сторонам.
Доктору Лазраку было не по себе. Он завернулся в теплый халат и, сжав кулаки, принялся шагать по натертому паркету от окна до двери, через которую только что вышел Арезки. Это была подлость гораздо более значительная, чем совокупность мелких ежедневных подлостей, которые он совершил за те два года, что длится война. Когда она разразилась, он сказал — это так, кустарщина. Долго не протянется. Это вьетнамцы вскружили им голову своей кустарной войной, своими неграмотными офицерами. Им сказали, что крестьяне, кричащими валами шедшие на приступ мощных дотов современной армии, были неотесанны и безоружны, такие же, как они, и, как ни косили их пулеметы, вера оказывалась сильнее. То, что сделали «нья ке»[37], утопая на рисовых плантациях, они хотят начать снова, только у себя в джебеле[38]. Но они не знают, что бомбе, отправленной из Марселя, потребуются недели, чтобы добраться до Ханоя, и всего час, чтобы поразить Алжир; они забывают, что рядом с Индокитаем есть Китай со своей необъятностью, с множеством людей, а за Алжиром, реальным, невыдуманным, — пустынные дюны Сахары.
Башир говорил себе, что это голос разума. Но с каждым днем голос этот становился все слабее. Простое чтение газеты по утрам наполняло его сердце безумными порывами, будило в нем старые мечты, которые он считал мертвыми. Дошло до того, что он все чаще и чаще должен был прибегать к так называемому лечебному курсу противоядия.
«Осторожно! Не закусывай удила!.. Это снова только цирк… Пройдет несколько недель, потом в один прекрасный день романтики побросают где-нибудь в лесу свои охотничьи ружья и вернутся домой, невинные пойдут в тюрьму, а хитрые получат лицензии на открытие мавританских кафе или попадут в число депутатов на еще одних, конечно же фальсифицированных, выборах…»
Не участвовать в этом было подлостью, грехом умолчания. Но то, что он сделал сейчас, было вполне конкретной, определенной подлостью, у которой был цвет — грязный и тяжесть — давящая.
«Мой дядя всадил себе пулю… Мой дядя доверяет только вам…»
А если бы маленький служащий сказал правду? Если бы он просто-напросто сказал: «В четырнадцати километрах отсюда раненые бойцы. И конечно, мы не можем позвать французского врача…»
Доктор раздвинул шторы. Вечно новый вид алжирской гавани обыкновенно отвлекал его. Но кто-то разрушил чары. Эти густо насыпанные огни превратились в пылающий костер, куда в качестве жертв были брошены тысячи маленьких, очень аккуратных служащих, рабочих в матерчатых ботинках, беременных женщин: им суждено гореть всю ночь, всю жизнь. Шум, доносившийся оттуда, был звоном цепей, нескончаемым стоном отверженных. Маленький служащий расколдовал гавань. Сквозь феерию огней Башир видел мостовую, которую топтали сапоги военных, ищущий вслепую, испуганный треск автоматов, медленное, гуськом, шествие алжирцев, объятых яростью или ужасом, руки их сложены на голове, будто ручки амфор; он видел обезумевших, ищущих женщин, закрытых чадрой, самок, у которых похитили их самцов и которые целыми днями ходят и ходят по городу в домашних туфлях, а то и босиком.
На другой стороне улицы, меньше чем в двухстах метрах отсюда, в недостроенном доме, каждый вечер начиная с одиннадцати пара[39] приступали к пыткам. Когда было тихо и соседи не включали на всю мощность радио, чтобы заглушить крики, он отчетливо слышал вопли тех, кому настала очередь делать признания.
Три патруля перекрыли улицу на расстоянии десяти метров друг от друга. Скопились машины, больше всего было грузовиков, за рулем которых сидели алжирцы. Каждый раз, как подъезжала машина, один из солдат, стоявший впереди, наклонялся к дверце. Когда он узнавал по виду европейца, то делал ему знак ехать дальше, иногда извинялся или перебрасывался с ним шуткой. Если же это был алжирец, он указывал ему автоматом на конец очереди.
Вдруг Башир увидел, как заметались в разные стороны солдаты первого патруля. Один из них выкручивал руку маленькому служащему. Арезки шатался от ударов. Потом они бросили его в джип. Трое пара вскочили вслед за ним. Он попытался поднять голову и держаться прямо. Поднес руку ко лбу, чтобы поправить волосы, но кровь заливала ему глаза, пальцы. Джип рванул с места по направлению к нижней части города, завизжав по асфальту шинами.