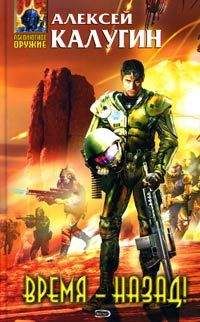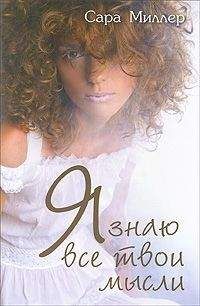Евгений Гагарин - Возвращение корнета. Поездка на святки
— Зи шпрехен руссиш? — спросил резко командир. «Догадался!» — подумал Подберезкин, чувствуя легкий холодок во всем теле и покачал головой:
— Nein, bedauere.
Но полковника гораздо больше интересовал захваченный мотоцикл, — наклонившись над машиной, он осматривал повреждение, причиненное Рамсдорфом.
— Где докторша? — спросил он вдруг, обернувшись к партизанам, и, не дождавшись ответа, продолжал: — Да, уехала сегодня. Ну, завтра допросить. Может, машину справит. А на ночь — в землянку. Дать ему чего поесть — вишь дрожит, должно от страху.
Подберезкин закусил губы, едва сдержав себя, чтобы не ответить. Страху перед ними у него не было. Дрожали ноги, закоченевшие от долгого сиденья, с этим он ничего не мог поделать.
— Да что ж, товарищ полковник, — вмешался Семухин, — чего же ждать до завтра. Я его и сам допрошу. Эй, ты, Фриц, махер, пахер! — закричал он корнету, тыкая в машину. — Голова твоя варит? — Машина капут — починить нам можешь? А то башку с плеч долой, слышь!
— Die Maschine ist beschädigt — сказал Подберезкин сухо, — Kaputt.
Тимошка стоял с выпученными глазами.
— Я и говорю капут. Ишь, сукин сын, понимает! — изумился он.
— Ступай проспись! — сухо сказал полковник и снова отстранил рукой Семухина. Тот придал лицу глупо-комическое выражение и отошел под хохот обступивших его партизан.
Командир скоро ушел в барак. Партизаны опять улеглись к огню. Один из них, подтолкнув Подберезкина, знаками велел сесть ему поблизости. Над огнем висел черный котел, слышалось бульканье, шел пар, пахло рыбой, должно быть, они варили уху. Партизан рядом с Подберезкиным, мужик лет 45-ти, был одет в стеганую ватную куртку, в длинные охотничьи сапоги; на голове сидела бурая баранья шапка под стать его курчавой маленькой бороде и загорелому лицу. Вид у него был такой крестьянский, мирный и добропорядочный, что Подберезкин удивился — с чего он в партизаны пошел? Называли его Никифор. Когда Подберезкин сел, тот достал из мешка деревянную ложку и маленький котелок, и наполнив ухой, подал корнету.
— На, поешь — веселее будет. Тоже живая душа. Пить-есть просит.
Сначала партизаны не обращали на Подберезкина никакого внимания, и он с наслаждением стал хлебать уху; живо припомнилось детство, ужение рыбы с крестьянскими парнями из деревни, костры, зажженные на берегу, и котелки с горячей пахучей ухой — какой они возбуждали голод!.. А сидевшие тихо говорили, продолжая, видно, старую беседу. Подберезкин осмотрелся: у этого костра сидело восемь человек, у другого побольше. Здесь все на вид были деревенские, одеты в армяки, полушубки, лишь двое военных в красноармейских пилотках. У того костра все были моложе и все в солдатском, там громко смеялись, и становилось всё шумнее. Громче всех кричал Тимошка, несоразмерно ударяя по отдельным слогам и словам: он видно еще выпил.
— Ишь, герой, раскричался! — заметил Никифор, — им, брехунам, теперь самая развеселая жизнь. Работать не надо, знай лакай, не зевай. Война ему — что милая жена. Не наши дела.
Вечер был для апреля на удивление теплый — первый по-настоящему весенний вечер. Поев, часть сидевших разошлась; остались сидеть четверо, в том числе и мужик, подавший Подберезкину ухи. Корнет старался разгадать — кем могли быть раньше эти партизаны? Никифор был несомненно крестьянин, из крестьян же и сосед его — молодой белокурый парень в овчинном полушубке с лицом явно не городским и не городской же речью. А два другие были уже нового, неопределимого для Подберезкина типа: они не походили на фабричных, но не были и деревенскими парнями старого пошиба. Оба были лет тридцати; оба в солдатских шинелях, один всё курил трубку, доставая махорку из яркого ситчатого кисета, каких Подберезкин не видал уже лет 20; припомнил он теперь эти кисеты с нежностью. Сколько певали о них раньше девки песен — «Сшила милому кисет»… И уже по кисету одному можно было угадать, что парень этот не городской. Про его существование сидевшие у костра, видно, совсем забыли: корнет привалился в сторонке под теплым воздухом и притворился спящим. Все четверо несомненно знали друг друга и раньше, происходили из одного места, ибо в разговоре поминали общие имена. Скоро Подберезкин понял, что принадлежали они все к одному совхозу, оба парня в шинелях были там трактористами, говорили всё о какой-то машинной станции. Деревню русские, уходя, сожгли, скот увели немцы, позабирали на работы в Германию население; кто мог, тот разбежался по лесам, по партизанам; двое в шинелях были раньше в Красной армии, попали в плен и бежали вместе из немецкого лагеря от смертного боя и голода.
Корнет лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь теплом, и различал голоса уже не смотря.
— Ишь пленный-то заснул, — раздался близко голос Никифора, и сквозь ресницы Подберезкин увидел, что все на него смотрели. — Офицером будет — видно по мундиру и по обличию. Погибшая его дела — либо Семухин кончит, либо в тылу голодом помрет. На советских харчах немец долго не протянет.
— А чего лез? — отозвался парень в шинели постарше, судя по голосу, без злобы, лениво — просто слова подвернулись на язык.
— Их тоже, брат, не спрашивают. А человек, видно, ученый, не нашим чета, — мужик кивнул головой по направлению барака. — У нас такие-то офицеры были в ту войну, ученые, как полагается, не то, что теперь — мужик мужиком. Войска без офицера — что без головы. Да беда, говорят, коль голова худа. Я и то не пойму: мужики вот мы, а ученых немцев гоним. Только что валом и берем. Войны ждали, что праздника, а вот она что получилась.
— Заграницей дураков-то тоже подходяще. А кто оборет — известно дело: жидова…
— Как бы тебя, дядя, за такие-то слова в ящик не сыграли, — сказал другой из парней в шинели.
— А что, неправда?
— Правда, парень, была, да быльем поросла, — отозвался Никифор. — Правды нонче не ищи. Думай да терпи — вот и вся наука. Что было, то забыли. Раньше я всё мозговал, правды искал. А теперь себе урок положил — велят, делаю, сполняю, а ответа не беру — ни перед Богом, ни перед людьми. Много греха в миру. Забыли люди, что по Божьему веленью и подобию сотворены, вся разгадка тут.
— Бога, друг, давно в расход вывели, — отозвался тот же парень и так же лениво, без всякого убеждения.
— Вот то-то и есть, что вывели. А что осталось — дикое поле. Всё измяли, сравняли. А отцы говорили: без Бога ни до порога. Без Бога страшный становится человек.
Подберезкин прислушивался с волнением к словам Никифора, узнавая в нем старого русского крестьянина, говорившего всегда своей собственной, особенной речью, того русского крестьянина, о котором он столь часто вспоминал в Европе, где ему всегда казалось, что всеобщая грамотность и радио еще не культура. Культура это — память о Боге — казалось ему. У Екклезиаста стояло: «Начало премудрости есть страх Господень». Этот русский мужик, дикарь на европейский взгляд, был, вероятно, ближе к мудрости мира, чем средний европеец с его радио и автомобилем. Впрочем, уже до революции таких крестьян, как Никифор, становилось всё меньше и меньше.
— Я тоже так, папаша, думаю, — вступился молодой белокурый парень, — насмотрелся я делов, — вижу: не можут одни люди мирно промежду собой жить. Одна смерть кругом, смерть да обман. Он тебя, а ты его. А кто виноват — не уразумею. А чую, можно бы по-другому. Смотрю, гляжу на звезды — обмирает душа: до чего хорошо можно жить на свете. А вот боюсь — побьют и не узнаю, что из себя жизнь была.
— Смерти не бойся, грехов, худого бойся.
— Третьего дни, — продолжал парень рассказывать, не обращаясь ни к кому, как будто самому себе, — ходили мы с Семухиным на разведку, как знаете, до соседнего села; ну, пробираемся обратно до лагеря, по опушке идем. День — не день, а песня, всё тебе поет — солнышко, птицы, лес. Только далече где-то легкие орудия бьют, такая мать… так сердце и обливается — почто жить мешают, песне жизни? Ползем по опушке, зараз я вижу — немец, часовой, у сосны приткнулся, ружье рядом стоит. Я — Семухину, а он поотстал — знак: аккуратней, мол, не шабарши, а сам дивлюсь: как немец нас не заслышал? И вижу — спит! Ружье к сосне поставил, ворот мундера расстегнул, куфайку приоткрыл, пригрело солнцем — и спит, как дитя малое. По уставу учили: либо бить немца, либо в плен, а я не могу — спящий человек, как спящего обидеть? Один так бы и ушел, оставил немца — пускай досыпает, а Семухин — что с него взять, ишь орет! — как подкрадется, гадюка, мне и опомниться не дал, штык прямо в грудь всадил, тот и не пискнул. Живьем, понятно, нельзя было взять — закричит, деревня занятая близко; стрелять — тоже услышат, одно — штык. Семухин его живо и обкарнал: куфайку снял, на себя оболок, сапоги стащил, перевязал, за спину себе бросил, карманы обшарил и дале пополз. Мне даже слова не сказал. И я дурак дураком остался. Мой был немец, а Семухину достался. Остался я один, смотрю — был человек и нету человека, как спал, так и не проснулся. А глаза открытые — страх! Никак не могу понять, что это такое. После всех этих делов совсем как чумной хожу. Себе не рад. Кушаю, а ровно кто чужой, не я, кушает. Плохой я солдат.