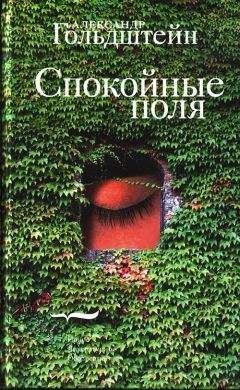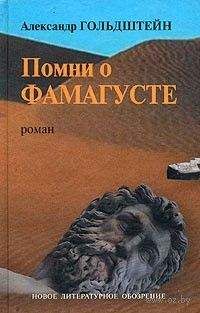Александр Гольдштейн - Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики
О «гуманизме» в период либерализации говорили многие, причем разговор начался на самом верху и затем уже захватил литературу (сам лозунг «нового гуманизма», следует заметить, был выдвинут «Перевалом» еще в конце 20-х годов, незадолго до разгрома этого литературного объединения). И все же если оставаться в историко-литературных пределах, в границах, очерченных соцреалистической поэтикой, то «гуманизм» окажется производным от более фундаментальных аспектов художественного видения, присущих определенной линии русской словесности 30-х годов. Среди наиболее существенных топосов этого соцреалистического видения следует прежде всего выделить так называемую «прозрачность», под которой нужно понимать некое основополагающее качество действительности, каковой она представала в искусстве соцреализма.
Соцреализм — не столько стиль, сколько миропонимание, особый строй оценок, особая аксиология. «Прозрачность» же как свойство соцреалистического мировосприятия — это приписывание миру тотальной проницаемости, распространяющейся буквально на все и вся: пространства, предметы, человеческие отношения, движения души. Это, говоря словами Александра Веселовского, сказанными применительно к Петрарке, идеальная прозрачность, разрешающая контрасты. Можно предположить, что это качество идейной поэтики советской литературы 30-х годов соотносится с Марксовым анализом преодоления фетишизма и отчуждения. Избавившееся от них социалистическое общество должно стать обществом простого эквивалентного обмена человечности: любовь будет обмениваться только на любовь, доверие только на доверие. То будет общество павших перегородок и средостений, в нем содраны все лживые маски и уничтожены все лицемерные напластования, ранее выдававшие свое призрачное, мнимое подобие за доподлинную реальность. У свободных людей, работающих общими средствами производства, «общественные отношения… к их труду и продуктам труда остаются… прозрачно ясными как в производстве, так и в распределении». Обо всем этом в русской и советской марксистской и околомарксистской публицистике было написано довольно много. Любопытно, что некоторые следствия тезисов первой главы «Капитала» невольно ассоциируются с отдельными мотивами вдохновленных средневековьем консервативно-романтических проектов общественного устройства, опирающегося на непосредственные, патриархально-сердечные связи людей, не искалеченные посредничеством социальных фетишей — денег, товаров, бюрократических институтов. В средневековье, как писал сам же Маркс, производственные отношения «проявляются во всяком случае именно как… собственные личные отношения людей, а не облекаются в костюм общественных отношений вещей, продуктов труда». Необходимо отметить и то, что идея «прозрачности» пронизывала собой просветительские утопические проекты из области социального и в том числе пенитенциарного устройства (Бентам, Руссо и др.), о чем подробно писал М. Фуко в работе «Надзирать и наказывать». Вспомним также прозрачный мир набоковского «Приглашения на казнь» и непрозрачность отщепенца Цинцинната Ц.[72].
Идея «прозрачности» в советской литературе 30-х годов связана с ощущением всецелой познаваемости мира, вернее — познанности его. Но в появившейся в это время сентименталистской ветви словесности акцентируется и другой момент — «понимания», то есть не жестокого, «тоталитарного» обладания миром и его истиной, но вслушивания в мир, в слова и сердца других людей, чтобы уловить самое важное, потаенное, что ведет в «страну смысла» (Н. Зарудин). Эта возможность всех услышать, протянуть нить от каждого к каждому характеризует не состояние власти над миром, а коммуникации в нем. Царство советского гуманизма раскрывается посреди мира сквозной, воздушной архитектуры, абсолютно внятных и потому прекрасных человеческих отношений, почти античная ясность которых не противоречит коммунальному вареву нового роя и улья, а причудливо и органично сосуществует с ним. В результате часто возникает специфическая атмосфера лирической сердечности, теплоты и даже умиления, порой легкой и терпкой грусти, как в той же «Тоне» Ильфа и Петрова.
«В вещах Босталоевой Вермо нашел „Вопросы ленинизма“ и стал перечитывать эту прозрачную книгу, в которой дно истины ему показалось близким, тогда как оно на самом деле было глубоким, потому что стиль был составлен из одного мощного чувства целесообразности, без всяких примесей смешных украшений, и был ясен до самого горизонта, как освещенное простое пространство, уходящее в бесконечность времени и мира» (Андрей Платонов. «Ювенильное море»). Книга «близка» и «глубока», она раскрывает вселенную, которая, будучи тотально проницаемой, утрачивает привычные свойства и обретает новые, иные. Нет уже «ближе» и «дальше», ибо нет разделения на «ближних» и «дальних» в мире людей — ведь любого из них можно услышать, выслушать и понять, согреть его теплом участия. Так, большевик Андрей в одном из северных рассказов забытого писателя Ис. Гольдберга сообщает бедному тунгусу Юхарце удивительную и неслыханную повесть о красных и белых, и Юхарца переживает чувство, какого не испытывал никогда: за таежными дебрями, в мире, где все ему были чужды и порой враждебны, имеются неведомые друзья, и они думают о нем, о его жизни, его счастье. Предел этой «прозрачности как понимания» — отношение чекистов к социально близким уголовникам, которым в случае примерного поведения предстоит перейти в мир, где нет ни «ближних», ни «дальних»: следователи знают о блатных даже то, чего те не знают сами о себе, и, передавая последним это знание, выпрямляют их. Об этом проникновенно писала М. Шагинян.
Распахнутые советские территории тоже осмысляются символически: они по-разному заряжены значением в различных своих частях и легко сопоставимы с пространством мифологическим, сказочным, глубочайшим образом связанным с личностью преодолевающего его человека. Земля эпоса, сказки и мифа несет гибель дурному и позволяет пересечь себя добродетельному, испытав его, как испытывает она (и в конечном итоге благословляет на жизнь) арбузовскую Таню, идущую сквозь метель на помощь больному, Саню Григорьева («Два капитана» В. Каверина), летящего сквозь метель на помощь раненому, или другую Таню, Сабанееву («Дикая собака Динго» Р. Фраермана), идущую сквозь метель, чтобы спасти жизнь своего больного друга и лишь во вторую очередь — свою. Это пространство не физическое, а ценностное, смысловое, его можно преодолеть любовью, заботливым голосом, добрым словом. Так звенит над бескрайними русскими просторами голос железного наркома Кагановича, и жалобно стонущие от чувства дальних расстояний телефонные провода доносят слова наркома до начальника железнодорожного узла Левина, грустного, махнувшего на себя рукой человека (А. Платонов. «Бессмертие», 1936). Левин пробужден к новой жизни, он более не усталый раб исторической необходимости, добровольной жертвой которой он давно уже готов стать, но сильный человек и творец истории. Его имя звучит в ночи, голос наркома возвращает печальному герою утраченный смысл его поведения, побеждает казавшееся необоримым левинское чувство заброшенности посреди огромного, бесприютного мира.
Концепция рассказа отвечает характеру мировидения Платонова второй половины 30-х годов, упованиям писателя на сложение такой страны, в которой никто не будет забыт и всякий должен быть услышан (борьба с забвением — устойчивый мотив его прозы того времени), и даже онтологически присущее жизни страдание будет как-то умеряться, утепляться и сглаживаться новым строем отношений и чувств. Ведь социализм многими, в том числе Горьким, Зощенко, а на Западе, например, Иоганнесом Бехером, понимался как система, устраняющая трагизм бытия.
Еще один голос, исходящий из Кремля, насквозь прободает советскую действительность — на этот раз самого Сталина, звучащий в обширном революционно-утопическом романе П. Павленко «На Востоке» (1937), в котором автору замечательно удались сцены внеморальной авантюрной экзотики и садистического насилия. Слова главнокомандующего звучат в решающий момент боя в гипотетической войне будущего и в силу своего сакрального статуса способны преодолевать любое пространство и любое время, подчиняя их себе. Но и сами по себе советские просторы изначально проницаемы для добродетели, потому что наполнены этическим смыслом, благодарно откликающимся на нравственно чистое диалогическое соприкосновение с пространством, вхождение в его глубины с благими, а тем более высшими намерениями. Отсутствие каких-либо мутных средостений позволяет людям, раскиданным по лицу советской земли, говорить друг с другом от сердца к сердцу даже тогда, когда они не в состоянии встретиться взглядом: теплые токи душевной симпатии заполняют страну. В растрепанном, торопливом и экзальтированном романе И. Эренбурга «Не переводя дыхания» (1935) есть эпизод, который, что называется, произвел впечатление на современников: зимовщики на далекой станции слышат по радио обращенные к ним слова их родных, говорящих с ними из Москвы. И Вера Горлова, ни разу не сказавшая Геньке ничего определенного, произносит в эту минуту то, что он больше всего хотел бы от нее услышать: «„Слушай, Генька! Это говорит Вера Горлова… Твоя жена. Ты меня понял, Генька? Я тебя жду. Ну, вот, кажется, это все…“ Вера обвела глазами комнату, и вдруг все эти незнакомые люди показались ей близкими, родными». Гигантски расширившиеся технические возможности — всего лишь следствие сквозного сияния, непреложной открытости нового социума с его видимой во все стороны света социальной архитектурой. Это общество вняло безоглядно-искреннему чувству молодых, прислушалось к значению и любви в трогательно неловких порой словах старших. Скромное обаяние социализма, сквозящее в угловатых и застенчивых фразах этих людей, что собрались у радиопередатчика, проникает в холодный ночной воздух, согревая его нежностью и надеждой. «Над страной, занесенной снегом, над льдинами, над новыми городами, над золотым прахом устюжских монастырей, над чумами лопарей, ненцев, чукчей, над миром белым и темным несутся взволнованные слова: „Бухта Тихая, это ты? Ты, Маточкин Шар? Москва говорит! Москва!“» И те, на краю земли, жадно вслушиваясь в далекие и близкие слова, понимают, сколь велика в этой стране солидарность и как незначительны для нее расстояния. С тем же чувством ловят по радио позывные столицы, а после новогодний звон Кремлевских курантов зимовщики в «Чуке и Геке» А. Гайдара: они не затеряны в снежной пустыне, о них помнят. Любовь — важнейшая топологическая и лишь вследствие этого — эмоциональная характеристика советского универсума, это его пространственная и архитектурная константа, его голографическая формула.