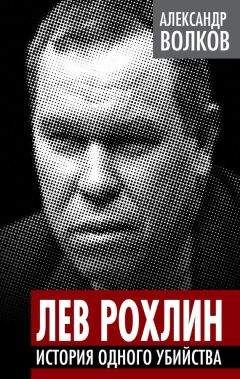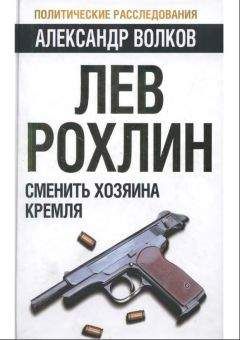Бернардо Ачага - Сын аккордеониста
«Если тебя не привлекает идея стать налетчиком, мы можем попробовать что-нибудь другое», – сказала Тереза, беря меня за руку. Я отнял у нее пистолет и положил его на тумбочку. Она затушила сигарету, которая тлела в пепельнице. «Мы можем путешествовать по всем испанским городам. Мой отец говорит, что уличным артистам в Испании дают больше денег, чем во Франции. Ты будешь играть на аккордеоне, а я танцевать». – «А какое у нас будет сценическое имя?» Тереза обвила руками мою шею. «Пип по и хромая балерина». – «Пирло – красивое имя» – прокомментировал я. «Кажется, одного из друзей этого боксера, Ускудуна, зовут именно так. Я слышала это от своего отца». – «Вижу, ты много разговариваешь со своим отцом». Она легла на меня сверху. «Давид, а ты испугался, когда я прицелилась в тебя из пистолета?» – «Нет». – «Нет, испугался. И правильно сделал. Ты ведь прекрасно знаешь, что я способна отомстить. Как в тот раз, когда я дала тебе тетрадь с гориллой. Но теперь все было бы гораздо хуже. Я сделала бы тебя недееспособным». – «Недееспособным в каком смысле, позволь узнать?» Она снова попыталась дотянуться до пистолета, но я крепко держал ее за руку. «Отпусти. Это безумная идея. Таким образом я бы осталась твоей единственной женщиной». Смеясь, она протянула другую руку к тумбочке.
У ящика тумбочки был ключ, и я запер там пистолет. На мгновение я застыл в нерешительности, не зная, что делать с ключом. «У тебя нет карманов. Это проблема», – сказала Тереза, смеясь все громче. Я открыл окно и выбросил ключ наружу. Взлетело пять или шесть воробьев. «Иди сюда, Давид». Тереза лежала на кровати, раскинув ноги. «Если хочешь побить меня, сделай это». – «Когда мы выйдем немного подышать воздухом?» – спросил я, ложась рядом с ней. «Подожди немного. Если хочешь, чуть позже мы можем потренироваться в стрельбе из пистолета». – «Но мы не можем вынуть его из ящика». – «У меня есть другой ключ. Я ведь очень предусмотрительная девочка». Она поцеловала меня влажным, неприятным поцелуем. «Я очень дурная девочка. Тебе следовало бы побить меня», – сказала она. От нее пахло потом. И табаком. «Я тебя раздавлю», – ответил я. Она лизнула мне лицо.
Птица замертво упала под мишенью. У меня было желание вернуть мгновение, предшествовавшее выстрелу; но пуля не вошла обратно в ствол, мой палец продолжал нажимать на курок. «Что я наделал!» – вскричал я. Тереза наклонилась над птичкой. «У нее все еще открыты глаза. Тебе придется добить ее». Я не двинулся с места. «Смотри, смотри, как она их открывает, – настаивала она. – Скорее, Давид. Лучше пусть она умрет, чем продолжает страдать». Я не находил что сказать, весь взмок от пота. «Она ничего не весит, – сказала Тереза, кладя птичку на ладонь. – У нее тело еще теплое». Она сделала шаг ко мне. «Возьми ее. Закончи то, что начал».
Внезапно она кинула ее в меня, словно камень. Я почувствовал удар в грудь, «Успокойся!» – крикнул я ей. Я сделал движение, намереваясь бросить пистолет. «Нет, не бросай его! Помни, ты должен добить ее». Тереза смеялась. «Что ты говоришь? Она же мертва!» Я внимательнее взглянул на птичку: крохотная головка свесилась набок; глаз превратился в складку. Я швырнул пистолет под дерево. Тереза пошла поднять его.
Она вернулась в дурном расположении духа, изучая пистолет. «Не знаю, почему ты так это воспринимаешь. За один только день ребятишки в Обабе убивают двадцать таких пташек из своих дробовиков». – «Да как такое может быть?» У меня в голове не укладывалось то, что произошло. «А как ты хочешь, чтобы было? – ответила Тереза, теряя терпение. – Ты выстрелил в мишень, но попасть в нее не так-то просто. А эта глупая пташка оказалась перед ней. Это не твоя вина». Мне казалось, что моя. Что мне давно уже следовало быть дома. Теперь где-то около восьми. Женевьева приедет, как минимум, часа через два. Берлино с моим отцом и Мартином гораздо позднее. Серый цвет неба теперь был заметно темнее.
Тереза бросила птичку в мусорный бак. Когда она вернулась, глаза у нее были подернуты слезами. «Это был наш первый спор, Давид. Слишком рано мы начали. В тот же день, когда первый раз занимались любовью». Она снова направилась к мусорному баку. «Что ты собираешься делать?» – спросил я ее. Но и сам уже знал, она собиралась вынуть оттуда мертвую птичку. «Я найду красивый кусочек ткани, заверну ее и похороню. Не знаю, как мне пришло в голову бросить ее в этот отвратительный бак. Я была слишком жестока. – Она поглаживала птичку рукой. – Знаешь? Меня ведь ждет та же участь, что и эту птичку. Я буду писать тебе из По, а ты будешь выбрасывать мои письма»… – «Я думал, ты предпочитаешь отожествлять себя с волком Германа Гессе», – заметил я. Я не собирался обращать внимание на смены ее настроения.
Из одного из окон верхнего этажа донеслась музыка. «Это наша песня», – сказала Тереза. Я прислушался. То you, ту love. Она была права. Кто-то снова включил ее проигрыватель. «Кто это ходит по твоей комнате?» В голову мне пришла мысль о Женевьеве, но этого не могло быть. Даже если бы она зашла в комнату к своей дочери, вряд ли бы она поставила пластинку Холлиз. «Наверное, этот пес, – презрительно сказала Тереза. – Видимо, вынюхивает что-то в простынях». – «Грегорио?» – «Я подозревала, что он прибрал к рукам ключ от моей комнаты. Теперь не остается сомнения».
Я вдруг обратил внимание на парня, который бегом пересекал стоянку. «Себастьян!» – позвал я его. Даже если бы речь шла о Лубисе, я бы так не обрадовался. «Ire bila nitxdbilen, David» – «Я как раз искал тебя, Давид», – сказал он, подойдя к нам. «Что случилось?» – спросил я. «Мотоцикл уже здесь. Об этом мне сказала твоя мать. И еще чтобы ты бежал домой, механик объяснит тебе, как он действует». Я с облегчением вздохнул. Себастьян посмотрел на Терезу. «Что это у тебя в руке?» – спросил он. «Мертвая птичка». – «Да не в этой, в другой». – «Чудный пистолетик. Хочешь попробовать?» Тереза протянула ему оружие, и он решительно взял его. «Ну и дрянь! Мне в тысячу раз больше нравится обычное ружье», – воскликнул он, возвращая пистолет.
Мы с Терезой поцеловались на прощание. «Это был самый счастливый день в моей жизни», – сказала она. «Я рад». – «Ты больше радуешься тому, что я уезжаю в По». – «Это неправда, – возразил я. – Кроме того, ты пока еще не едешь». – «Как это не еду? Ты не знаешь Женевьеву. Наверняка уже завтра я буду спать в общежитии». Себастьян знаком дал мне понять, что будет ждать меня на стоянке. «Ты ведь выполнишь свое обещание, правда?» – сказала Тереза «Шестнадцатого числа буду играть на аккордеоне, а ты станешь меня фотографировать», – пообещал я ей. «В этот день мы снова будем вместе». Она протянула мне руку. «Итак, до этого дня», – добавила она, направляясь к гостинице. «Ты мне напишешь?» – «Нет, Давид». – «Нет?» – «Ты мне никогда не отвечаешь. А если вдруг и соизволишь, то соврешь мне. А после того, что произошло сегодня, мне это будет не по душе». Я не нашел, что ей ответить. «Оставь птичку», – посоветовал я ей, видя, что она по-прежнему держит ее в руке. «Я хочу отдать ее Грегорио», – сказала она, продолжая идти к гостинице.
Себастьян внимательно разглядывал какую-то машину на стоянке. «Что ты там видишь?» – спросил я. «Не очень много, но я хочу стать автомехаником и нужно учиться». – «Автомехаником? Правда?» – «Ты же не хочешь, чтобы я стал пастухом, как мой отец! Я не собираюсь всю жизнь провести среди гор Наварры!» Мы оба сели на мой велосипед, я впереди он сзади, и поехали вверх по склону. «Ты даже не представляешь себе, какой красивый мотоцикл. Красного цвета. Ты должен дать мне проехать на нем один круг», – прокричал он мне. «А ты ездить-то умеешь?» – «А как же! Это ведь гораздо проще, чем на лошади». Я пообещал ему, что дам. Наконец-то стемнело. В немногочисленных домах, стоявших вдоль дороги, светились огни.
XIV
В конце августа пошли дожди, и горы и леса, окружавшие Ируайн, скрылись в тумане. Ближе к дому на одиноких деревьях листья были мокрыми и тяжелыми и походили на рисунки или аппликации. Еще ближе Фараон, Ава и остальные лошади осторожно щипали траву. Трава была очень зеленой; а дорога, пересекавшая долину, покрытая грязью, – желтой; крыша дома Лубиса красной, темно-красной. А небо белесым, как туман.
Я проводил долгие часы, не выходя из дома, глядя на дождь и занимаясь игрой на аккордеоне. Мне совсем не хотелось делать этого, или, что еще хуже, одна мысль о необходимости принимать участие в празднике по случаю открытия спортивного поля вызывала у меня отвращение; но я чувствовал себя обязанным из-за обещания, данного Терезе. «Твое участие в празднике было лучшим известием за все последнее время», – сказал мне Мартин с торжественностью, которой я раньше за ним не знал. Он заявил, что говорит от имени Берлино и Женевьевы. Потом вручил мне записку от моего отца: список вещей, которые я должен был исполнить.
Дядя Хуан смотрел с неудовольствием, как я играю на аккордеоне. Однажды вечером, когда я стал на кухне репетировать испанский гимн, он не выдержал: «Я не желаю слушать эту музыку в своем доме!» Я очень расстроился. «Я должен играть ее на открытии, дядя. А у меня все еще плохо выходит», – попытался я оправдаться. «А почему ты должен играть перед этими фашистами?» – «Я пообещал, дядя, и не могу нарушить обещание». – «А о чем ты думал, давая такое обещание?» Он был в ярости. Ушел, хлопнув дверью.