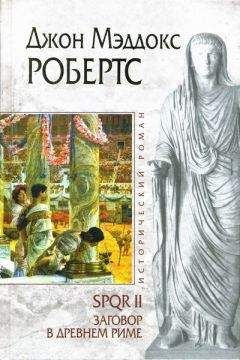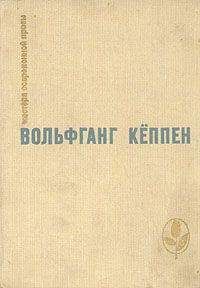Вольфганг Кеппен - Смерть в Риме
Ангелы не явились. Ангелы с моста Ангела не отозвались на приглашение древних богов. Они не перемешались в пляске с древними богами на Капитолийском холме. Мне очень хотелось, чтобы здесь, между остатками треснувших колонн, сидел Стравинский у черного рояля. Вот здесь, среди белых грязноватых крыльев мраморных ангелов, на чистом и горном ветру, поднятом крыльями богов, которые были воздухом и светом, хорошо бы здесь Стравинскому, сидя за роялем с черным поднятым крылом, сыграть свои «Пассакалии»; но ангелы не явились, боги попрятались, на небе собрались грозовые тучи, и Стравинский сказал только: Je salue le monde confraternel[21]. Для участников конкурса устроили прием в Капитолии. И мне казалось, что мы выглядим очень комичными в наших пиджаках — и боги, спрятавшиеся в развалинах, и фавны в кустах, и нимфы в буйно разросшихся сорных травах, вероятно, очень смеялись. Не они, а мы были старомодны. Мы были глупы и стары, и даже молодые среди нас были глупы и стары. Кюренберг подмигнул мне. Наверно, он хотел сказать: «Отнесись к этому не так уж серьезно, но все же достаточно серьезно». Он считал необходимым предоставить антрепренерам инициативу, тогда можно будет время от времени ходить с музой музыки в дорогой ресторан. Премии раздавал мэр города. Он был коллегой моего отца, и он вручил мне половину премии. Он вручил мне половину премии за мою симфонию, и я был изумлен, что получил хотя бы половину; конечно, этого добился Кюренберг, и я был ему благодарен, да и отец мой будет теперь в течение целого дня гордиться мной, ведь мэр дал мне половину премии. Но моему отцу никогда не понять, почему мэр наградил именно меня. А денежная премия была мне очень кстати. Я решил поехать в Африку. В Африке я напишу новую симфонию. Может быть, на будущий год в Риме я сыграю ее ангелам: черную симфонию черного материка сыграю белым римским ангелам на старом холме богов. Я знаю, Европа чернее. Но я хочу поехать в Африку, я хочу увидеть пустыню. Мой отец не поймет, что можно поехать в Африку ради того, чтобы увидеть пустыню и у пустыни взять музыку. Мой отец не подозревает, что я, как композитор, глубоко предан римским ангелам. Собор отцов церкви одобрил музыку Палестрины, на конкурсе признали мою музыку.
Его сон прервала не побудка, он испуганно вздрогнул, услышав жалобное мяуканье кота; в голове гудело, форт в пустыне был далеко, Африка была далеко, Германия была еще дальше, он проснулся в Риме, затылок ломило, все тело расслабло, он был взбешен, оттого что проснулся; после выпитого шампанского и несостоявшихся побед он ощущал во рту вкус парфюмерии, и вкус этот смешивался с чем-то кислым и едким, с привкусом разрушающихся клеток, комната плыла перед глазами, ступили и ляжки дрожали, вместе с тем он ощущал в теле напряженность и жгучее волнение от неутоленных желаний. Юдеян стал йод душ, растер тело и сказал себе на жаргоне казармы: «А ну-ка марш с полной выкладкой, да по-пластунски через поле!», но под душем он начал потеть и никак не мог вытереть кожу досуха, все вновь и вновь пот стекал струйками, выступал бисеринками. Юдеян задыхался, римский воздух слишком расслаблял его. По всем обычаям пьянства, раз начав, следует пить дальше, и рекомендуется утром с похмелья прибегнуть к тому же напитку, который ты пил вчера вечером, которым отравлен твой организм. Юдеян заказал полбутылки шампанского, шампанское — вино победителей. Он приказал как можно сильнее заморозить его. Бросил кусочки льда в бокал. Лед зазвенел о стекло. Рука Юдеяна дрожала. Он разом выпил бокал. Ясность зрения вернулась. Туман рассеялся. Он условился с Лаурой о свидании. Вот что главное. Пусть даже она переспала с Адольфом. Она ему необходима, еврейка или не еврейка, необходима, чтобы освободиться от мучительных кошмаров. Он вызвал черную посольскую машину, но через несколько минут позвонил шофер с военной выправкой и четко, без всякого трепета в голосе отрапортовал, что машина нуждается в ремонте, будет готова только вечером. Это прозвучал голос смерти. Но Юдеян не узнал его. Он выругался.
В старинной церкви Санта Мария дельи Ангели, в божьем доме под стенами терм, можно было исповедаться на многих языках, и Адольф Юдеян опустился на колени в исповедальне священника, говорившего по-немецки, и рассказал этому священнику, понимавшему по-немецки, то, что произошло между ним и Лаурой нынче ночью возле врат этой самой церкви. Но так как не произошло ничего такого, что могло бы вызвать серьезный гнев церкви против ее диакона, Адольф выслушал просто наставление впредь не подвергать себя соблазну и получил отпущение грехов. Сквозь решетку исповедальни он видел лицо своего духовника. Лицо было усталое. Адольфу очень хотелось сказать: «Отец мой, я несчастен». Но лицо у священника было усталое и отстраняющее. Ведь он выслушал сегодня столько исповедей. Столько приезжало в этот город путешественников, и они каялись в Риме в тех грехах, какие у себя на родине не решались доверить своему духовнику. Им было стыдно перед духовниками, которые знали их. В Риме их никто не знал, и они не стыдились, поэтому у священника лицо и было таким усталым. Адольф спросил себя: «Неужели и я буду когда-нибудь сидеть в исповедальне с таким же усталым видом и мое лицо будет таким же отстраняющим?» Он спросил себя: «И где будет моя исповедальня? В деревне? В старой деревенской церкви под деревьями? Или я не призван, я отвергнут, отвергнут с самого начала?» Адольф хотел было сунуть деньги, данные ему Юдеяном, в церковную кружку, но, протянув руки к щели, передумал. То, что он делает, не соответствует его духовному сану. Ведь он не доверяет церковному попечительству. В церковном попечении о бедных есть что-то кисловатое, как и во всяком попечении, и оно пахнет супом для нищих; деньги растворяются в супе для нищих. А ему хотелось доставить этими деньгами настоящую радость. И Адольф сунул грязные смятые банкноты в руку старухи, просившей милостыню у церковных дверей.
Юдеян ждал. Он ждал на вокзале возле справочного бюро, но Лаура все не шла. Неужели она отложила и утреннее свидание? Или еще лежит в объятиях Адольфа? Ярость вредна. Юдеяну еще было трудно дышать. Временами перед ним опять все заволакивало туманом, ядовитым багровым газом. Быть может, в следующую большую войну такой туман окутает всю землю. Юдеян подошел к буфету на колесах и спросил коньяку. Он стоял перед буфетом, словно перед продовольственной повозкой на поле боя. Он залпом выпил рюмку коньяку. Багровый туман рассеялся. Юдеян посмотрел в сторону бюро, но Лауры все еще не было. Юдеян прошел мимо газетного киоска. Он увидел иллюстрированную «Огги», висевшую на стенде киоска, на титульном листе был изображен Муссолини. Давний друг выглядел измученным, и Юдеян подумал: я тоже кажусь сегодня измученным. Позади Муссолини стоял какой-то мужчина в эсэсовской фуражке. Он стоял позади него как соглядатай, он стоял как палач. Череп на фуражке выделялся очень отчетливо. Кто это? Верно, кто-нибудь из моих офицеров, подумал Юдеян. На картинке эсэсовец стоял, опустив глаза, и Юдеян не мог узнать его лица. Вероятно, этого человека уже нет на свете. Большинства его людей уже нет на свете. И Муссолини умер. Его смерть была гнусной. И Юдеяна некогда приговорили к гнусной смерти. Но Юдеян жив, он ускользнул от них. Он жив, и время работает на него, а вот и Лаура. Он снова увидел ее улыбку и на мгновение подумал: да пошли ее ко всем чертям; а потом опять: она — еврейка, и это его снова возбудило. Лаура же увидела многообещающего иностранца и подумала: интересно, что он мне подарит? Теперь она внимательно рассматривала товары в витринах. Девушке нужны побрякушки, девушке нужны наряды, и, даже если девушка не умеет считать, ей все равно нужны тонкие чулки, и она привыкла при случае все это получать; при случае она допускала небольшие приключения, со всей невинностью, охотнее всего перед обедом, у нее не было постоянного друга, а после вечера, проведенного среди гомосексуалистов, хорошо было полежать в постели с настоящим мужчиной, это полезно для здоровья, а потом со всей невинностью покаешься духовнику; старики тоже ничего, правда, они некрасивы, но утром у них сил вполне достаточно, и потом они дарят больше, чем молодые, те сами хотят что-нибудь получить, а в Адольфе она ужасно разочаровалась, ужасно разочаровалась в этом иностранном молодом священнике, ей так хотелось провести с ним ночь, а священник удрал, побоялся греха; Лаура расплакалась и решила отныне держаться стариков — старики не боятся греха и они не удирают. Объясняться с Юдеяном было трудно, все же он понял, что она предлагает ему пойти в гостиницу возле вокзала.
Кюренберг пригласил меня в первоклассный ресторан на площади Навона. Он решил отпраздновать мою премию. Он извинился за жену — она не будет завтракать с нами, а мне стало ясно, что Ильза Кюренберг не хочет участвовать в этом праздновании, и я понял ее. В утренние часы ресторан был пуст; Кюренберг заказал всяких морских животных, мы положили их на тарелки — они напоминали маленьких чудовищ, — мы запивали их сухим шабли. Это было нашим прощанием с Кюренбергом. Он улетал в Австралию. Он намеревался в предстоящем сезоне дирижировать «Кольцом»[22]. Вот он сидит сейчас напротив меня, вскрывает чудовищных морских животных, высасывает их вкусное мясо, а завтра он будет сидеть с женой высоко в воздухе и есть воздушный обед, а послезавтра будет обедать в Австралии и пробовать странных обитателей Тихого океана. Мир мал. Кюренберг — мой друг, он мой единственный истинный друг, не я слишком почитаю его, чтобы обходиться с ним просто по-дружески, и поэтому, когда мы бываем вместе, я молчу, и он, может быть, считает меня неблагодарным. Я рассказал ему, что мне хочется на свою премию поехать в Африку, и рассказал о своей черной симфонии. Кюренберг одобрил этот план. Он посоветовал мне отправиться в Могадор. Я нашел, что название Могадор звучит красиво. Оно звучит достаточно черно. Могадор — древняя мавританская крепость. Но так как мавры теперь уже утратили свою мощь, я отлично могу пожить в их древней крепости.