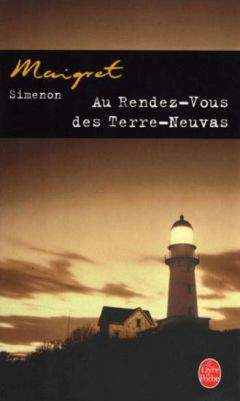Паскаль Мерсье - Ночной поезд на Лиссабон
Его взгляд упал на отель «Бельвью», старейший и самый фешенебельный в Берне. Тысячи раз он проходил мимо. И всякий раз чувствовал его живое присутствие. И сейчас он подумал о том, что ему необъяснимым образом важно, что он по-прежнему тут, на месте. Его бы испугало, узнай он, что здание снесли или что тут больше нет отеля — даже конкретнее: этого отеля. Но ему никогда не приходило в голову, что он, Мундус, может туда войти. Он нерешительно направился ко входу. Остановился «бентли», водитель вылез и зашел внутрь. Грегориус последовал за ним с таким чувством, будто совершает нечто немыслимо революционное и по сути своей запретное.
Фойе со сводами из цветного стекла было безлюдно, ковры поглощали всякий шорох. Грегориус порадовался, что дождь кончился, так что с его пальто больше не стекала вода. Он зашаркал в своих тяжелых уродливых башмаках в сторону ресторана. Из всех столов, накрытых к завтраку, занято было лишь два. Приглушенные звуки моцартовского дивертисмента создавали впечатление, что находишься вдали от всего орущего, назойливого и безобразного. Грегориус снял пальто и сел за столик у окна. «Нет-нет, — поспешно ответил он официанту в светло-бежевой куртке, — я не проживаю в отеле». Он почувствовал на себе изучающий взгляд: грубый свитер под поношенным пиджаком с кожаными нашивками на локтях, помятые вельветовые брюки с пузырями на коленях; реденький венчик волос вокруг изрядной лысины; седая борода с белыми прядями, которые всегда придавали ей некоторую неухоженность. Когда официант отошел с заказом, Грегориус торопливо проверил, хватит ли у него денег. Потом оперся локтями на стол, покрытый накрахмаленной скатертью, и обратил рассеянный взгляд на мост.
Смешно надеяться, что она снова появится там. Она пошла обратно к мосту, а после этого исчезла в узеньких улочках старого города. Он словно видел ее наяву, как она сидит за последней партой в классе и с отсутствующим взглядом смотрит в окно. Он видел ее судорожно сжимающиеся белые руки. И снова перед его взором из складок полотенца появлялось алебастровое лицо, утомленное и ранимое. Português. Он неуверенным жестом вытащил записную книжку и углубился в созерцание телефонного номера. Официант принес завтрак и серебряный кофейник с кофе. Грегориус не обратил на это ни малейшего внимания. Через какое-то время он встал и направился к телефону. На полдороги передумал и вернулся назад к столику. Потом заплатил за нетронутый завтрак и покинул отель.
Прошло уже много лет с тех пор, как он в последний раз наведывался в испанскую книжную лавку на Хиршенграбен. Прежде он частенько захаживал сюда за какой-нибудь книжкой для Флоранс, нужной ей в работе над диссертацией о Сан Хуан де ла Крусе.[4] Иногда в автобусе он их листал, а вот дома до этих книг не дотрагивался. Испанский — был ее территорией. Испанский слишком походил на латынь, но в то же время латынью не был — и это мешало ему. Ему было не по нутру, что слова, в которых латынь словно оживала, раздавались из уст современников — на улицах, супермаркетах, в кафе. Что их употребляли для того, чтобы покупать кока-колу, торговаться и изрыгать ругательства. Мысль об этом была ему невыносима, и он поспешно и решительно отгонял видения, как только они возникали. Конечно, римляне тоже торговались и ругались, но это было нечто иное. Он любил латинские предложения именно за то, что в них застыло прошлое. Что они никого не принуждали отвечать на них. Потому что этот язык был по ту сторону досужей болтовни. И еще потому, что в своей незыблемости они были прекрасны. «Мертвые языки»! Люди, посмевшие их так окрестить, ничего в них не смыслили. Поистине ничего. И Грегориус презирал их всеми фибрами своей души. Когда Флоранс говорила по телефону на испанском, он прикрывал дверь. Ее это оскорбляло, а он не мог объяснить.
В лавке восхитительно пахло старой кожей и книжной пылью. Хозяин, стареющий господин с легендарными познаниями в романских языках, оказался занят в задних комнатах. В основном помещении была лишь одна девушка, по всей видимости, студентка. Она сидела за столом в уголочке и читала тонкую книжицу в выцветшем от времени бумажном переплете. Грегориус предпочел бы одиночество. Чувство, будто он стоял здесь только потому, что мелодия некого португальского слова не шла у него из головы, и, возможно, еще потому, что понятия не имел, куда ему идти, было бы легче переживать в уединении. Он прошел вдоль книжных стеллажей, как в тумане, не различая ничего. Время от времени он приподнимал двумя пальцами очки, чтобы прочесть заглавие где-нибудь на верхней полке; однако, прочтя, тут же забывал. Как часто бывало, он погрузился в свои мысли, запечатанные для посторонних семью печатями.
Когда дверь лавки распахнулась, он резко обернулся и по своему разочарованию оттого, что это был всего-навсего почтальон, понял, что вопреки всякому здравому смыслу ожидал увидеть португалку. Студентка захлопнула книжку и поднялась. Но вместо того чтобы положить ее на стойку к остальным, остановилась, не отрывая взгляда от серой обложки, провела по ней рукой, и только когда истекли долгие секунды, положила ее так бережно и нежно, будто от неосторожного движения книга могла рассыпаться в прах. Она еще постояла у стойки, словно в колебаниях, не передумать ли и все-таки купить книгу. Потом засунула руки глубоко в карманы и, опустив голову, вышла из магазина. Грегориус взял томик в руки:
AMADEU INÁCIO DE ALMEIDA PRADO
UM OURIVES DAS PALAVRAS
LISBOA 1975.[5]
Появился хозяин лавки, бросил беглый взгляд на книжку и прочитал заглавие вслух. На этот раз Грегориус услыхал только поток шипящих; проглоченные, едва различимые гласные казались лишь поводом для бесконечного повторения змеиного «ш» на конце.
— Вы говорите на португальском?
Грегориус покачал головой.
— Она называется «Золотых слов мастер». Прекрасное название, правда?
— Сдержанно и изящно. Как матовое серебро. Не прочтете его еще раз?
Книготорговец повторил. За словами слышалось еще и то, какое наслаждение доставляет ему само их звучание. Грегориус открыл книгу и перелистал несколько страниц, пока не добрался до текста. Потом протянул ее продавцу, который, бросив на него полный удивления и расположения взгляд, начал читать. Грегориус прикрыл глаза. Закончив абзац, продавец остановился.
— Перевести?
Грегориус кивнул. И вслед за этим услышал слова, потрясшие его до глубины души, ибо звучали они так, будто написаны единственно для него, и не просто для него, а для него нынешнего, рожденного этим утром.
Из тысяч переживаний нашего опыта в лучшем случае лишь одно мы облекаем в слова, да и то случайно, без должной тщательности. Среди всех невысказанных скрываются и те, которые незаметно придают нашей жизни форму, цвет и мелодию. И если мы потом, как археологи души, обращаемся к этим сокрытым сокровищам, то открываем для себя, насколько они неуловимы. Предметы нашего созерцания не желают застывать в неподвижности, слова соскальзывают с пережитого и под конец на бумаге остаются только путаные противоречия. Долгое время я думал, что это недостаток, который надо преодолеть. Сегодня я думаю иначе: само признание путаницы — это «царский путь»[6] к пониманию своих интимных и в то же время непознанных переживаний. Знаю, это звучит странно, даже более чем странно. Но с тех пор как я смотрю на вещи так, чувствую, что впервые по-настоящему бодрствую и живу с открытыми глазами.