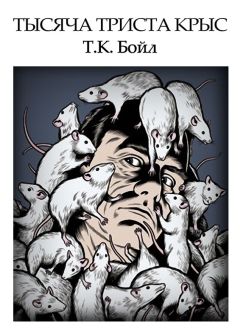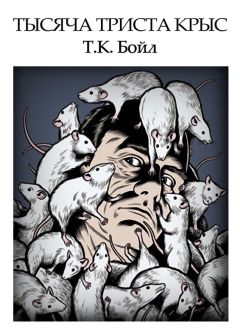Том Бойл - Пепельный понедельник
Колин повернулся к нему и сказал:
— Верно говорю, Сандж?
Согласно заведенному порядку, сначала они потолковали о спорте — обычный аперитив к беседе, прежде чем перейти к женщинам и, неминуемо, к работе. Сандзюро терпеть не мог спорт. И терпеть не мог, когда его называли Сандж. Но ему нравился Колин, и Дик Вюрценгрейст, и Билл Чэнь, славные ребята, и нравилось сидеть тут с ними, несмотря на ощутимое действие саке на пустой, как правило, желудок — а может, именно благодаря этому.
— Что? — услышал он самого себя. — Что верно?
Лицо Колина нависало над полудюжиной тарелок, измазанных соевым соусом, и бутылкой «Асахи», на дне которой еще оставалось на два пальца пива. Колин смотрел на Сандзюро, осклабясь, осоловелыми глазами.
— «Ю. К.»[11], — сказал он, — опережает «Станфорд» на тридцать пять очков! Представляешь? Вот я и говорю: каким же головотяпом надо быть, чтоб не поставить на то, что разрыв увеличится, — или я не прав?
Из-под полузакрытых век Дика Вюрценгрейста блеснул веселый огонек (Дик был пьян), а Билл Чэнь увлеченно беседовал с сидящей рядом женщиной о плюсах и минусах уличной парковки автомобилей, и каждому было понятно, что вопрос задан лишь хохмы ради: Сандзюро давно уже служил мишенью для подобных шуток. Все они мало что понимали, но Сандзюро тут любому мог дать фору: в спорте он ничего не смыслил.
— Да, — ответил он и хотел сверкнуть улыбкой, но сил не хватило. — Ты абсолютно прав.
Все расхохотались, но Сандзюро не обиделся — это был очередной пункт программы, — а потом принесли пиво, веселье угасло, и Колин завел разговор о работе. Вернее, не столько о работе, сколько о сплетнях, роящихся вокруг работы: такой-то держит у себя в столе бутылку, а другой, только-только пройдя тест на марихуану (проба оказалась положительной), — сшиб оленя, едва выехав за ворота, и так далее и тому подобное. Сандзюро слушал молча. Он умел слушать. Но ему наскучили все эти слухи да пересуды, и, когда Колин прервался, чтобы подлить ему и себе пива, Сандзюро сказал:
— Помнишь, я рассказывал тебе о мальчишке? Который назвал меня гуком?
— Желтожопым гуком, — уточнил Колин.
— Ты, конечно же, знаешь, какие сейчас ветра, особенно в каньоне, и я ведь тебе говорил, что мать каждый вечер посылает его во двор разжигать гриль?
Колин кивнул. Глаза его напоминали объектив фотокамеры: зрачки сначала сужались, потом расширялись — щелк. Колин был пьян. Сандзюро не сомневался: опять придется вызывать его жену, чтобы отвезла супруга домой. Вскоре и ему надо будет отставить в сторону пиво и встряхнуться перед дорогой.
— Так вот, всю неделю он пользовался бензином, как будто они не могут позволить себе купить разжигатель, а вчера вечером, представь, у него эта штуковина чуть не взлетела на воздух.
Колин отрывисто хохотнул, но, кажется, тут же понял, что это вовсе не шутка, что Сандзюро и не думал шутить, ему не до смеха: он сильно встревожен, нервничает, почти на грани истерики и уже готов сообщить в полицию. Или в пожарную часть, размышлял Сандзюро. Начальнику пожарной команды. Должен же у пожарных быть начальник.
— А внутри, в гриле, была крыса, и он ее поджег!
— Крысу? Ты, наверное, шутишь, да?
— Какие тут могут быть шутки! Крыса, как огненный шар, перелетела через дорожку и прямо в бурьян за гаражом!
— Конечно, какие уж тут шутки, — ответил Колин, понимая, что от него ждут такого ответа. Но потом заулыбался: — Хочешь, угадаю, что было дальше? — сказал он. — Бурьян загорелся.
Сандзюро вдруг почувствовал полное бессилие, будто чьи-то невидимые руки засунули его в свинцовый панцирь, сдавливающий спину и грудь, а он не может сопротивляться. Он жил на самом верху каньона, далеко от города, в небезопасном месте, из-за Сэцуко, из-за того что она боялась американцев — чернокожих, мексиканцев, даже белых, — вообще всех, кто толпится на улицах Пасадены, и Альтадены, и любых других городов. Пытаясь выучить язык, Сэцуко смотрела по телевизору новости и ужасалась. «Я не смогу жить в квартире! — упрямо повторяла она. — Я не смогу находиться рядом с такими людьми! Я хочу жить на природе. Я хочу жить там, где не опасно». Ради него ей пришлось переехать сюда, в эту страну, она пожертвовала собой в интересах его карьеры, вот и он ради нее пошел против своей воли, и они купили дом в самом конце дороги, на самом верху дикого каньона и старались сделать его похожим на дом в Митаке или Окутаме.
Сандзюро помолчал, глядя на Колина, всматриваясь в травянисто-зеленые заслонки его зрачков: Колин, его друг, его амиго, человек, который понимал его, как никто другой в их команде… — и вздохнул; вздох этот был глубже и тяжелее, и в нем было больше жалости к себе, чем бы хотелось Сандзюро. Потому что он никогда не проявлял своих эмоций. Японец не выставляет напоказ душевных переживаний, даже не намекает на них. Сандзюро опустил глаза. Придал лицу надлежащий вид.
— Да, — сказал он. — Именно это и произошло.
Так, сегодня у них будет курица, три острые итальянские колбаски (такие, как он любит) и кусок лосося, с которого еще не снята кожа и за который мать заплатила целых двенадцать долларов, потому что к ужину они ждут гостя. Учителя из маминой школы. «Его зовут Скотт, — сказала она. — Он вегетарианец».
Дилл с минуту переваривал информацию: гость к ужину, учитель, вегетарианец.
— И что же он ест? Шпинат? Брюссельскую капусту? Буррито с бобами?
Мать хлопотала у плиты. Ее полупустой бокал стоял между сотейником с зеленым горошком и кастрюлей, где варилась картошка для ее фирменного картофельного салата. Прямо по курсу был виден смазанный отпечаток губной помады на ближней стороне бокала, сквозь него проглядывали испорченные электронные часы и отсвечивающее оконце в хромированной рамке в дверце духовки, которая уже давно не работала, потому что от газового крана отвалилась ручка, и его уже было не открыть, даже плоскогубцами.
— Рыбу, — сказала мать, покосившись через плечо. — Он ест рыбу.
В тот день мать приехала домой сразу после работы, приняла душ, переоделась и пропылесосила ковер в салоне. Потом накрыла на стол и в центре поставила пустую вазу: «Он принесет цветы, вот увидишь. Он такой… очень внимательный», — после чего стала крошить зелень для салата и мыть картошку.
Дилл боялся, что она добавит: «Он тебе обязательно понравится», — но она этого не сказала, и он тоже ничего не сказал, хотя после её пояснения насчет рыбы успел придумать, как, придав голосу едкий оттенок сарказма, спросит: «A-а, значит, это свидание?»
Хлопнувшая за ним дверь оборвала ее тираду: «Смотри, не сожги рыбу. И не пережарь…» Он вышел во двор с полным блюдом продуктов, спичками и пластиковой бутылкой в руках. Это была брызгалка с зажигательной жидкостью, утром каким-то чудодейственным образом появившаяся у них на пороге.
Ветер, который было стих, снова поднялся — гонял мусор, перекатывал листья через подъездную дорожку и, взметая вверх, засыпал ими его говенную «тойоту», смешивая со вчерашними, и листьями с прошлой недели, и с позапрошлой. Дилл остановился на полпути к грилю и постоял, чувствуя ветер, вдыхая его запах, глядя, как солнце своими лучами пробивает дымку слой за слоем и как большой голый утес на верху каньона то расплывается, то снова из нее вылезает. Потом подошел к жаровне, поставил рядом блюдо с курятиной, сосисками и розовым жирным куском рыбы и поднял тяжелую железную крышку, немного надеясь, что там снова окажется крыса. Пли змея. Змея даже лучше. Но, конечно, внутри никого не было. Это ведь не какая-нибудь крысиная ночлежка, а просто гриль. И внутри был только пепел — пепел и больше ничего.
Ветер перекинулся через гараж, и пепел ожил, вихрясь, вырвался наружу, прямо как песок в фильме «Мумия возвращается». Это было прикольно, и он не стал вмешиваться: пускай гриль себя очищает. И пока суд да дело, пока мясо лежало на своем блюде, а пластиковая емкость сжималась и разжималась у него в руке, холодя ладонь, сам он был в школе, прошлой зимой, и у Билли Боттомса, который никого не боялся, никогда не проявлял слабость, и вообще у него не было никаких недостатков, ни единого прыщика, ничего, — так вот, у Билли на лбу, прямо посередине, красовалось черное пятно, словно след от большого пальца. Странное дело: как будто Билли за ночь обратился в индуса, — и Дилл не мог удержаться от желания его подразнить. Нет, обзывать его он не стал. Подошел сзади, обхватил одной рукой за шею и, прежде чем Билли успел понять, что происходит, прижал большой палец к отпечатку и отпустил — палец остался черным. Кулак Билли заехал ему в висок, он ответил тем же, и их обоих оставили после уроков, и маме, когда истек срок наказания, пришлось его забирать, потому что последний автобус уже ушел, и это была еще одна беда на твою голову — часть наказания: чтобы за тобой приехала мать. Или отец.