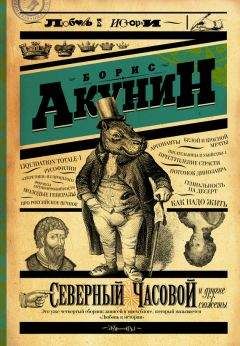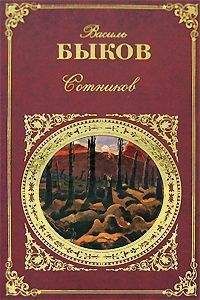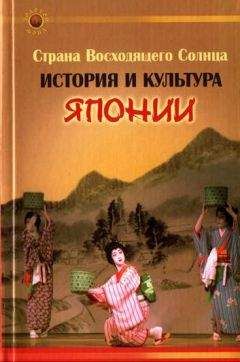Гай - Татлин!
Каждая сила выявляет форму[2] учил он. Ветер и море сформировали корабль.
Форма отвечает пользе. А затем польза совершенствует форму.
Чайки вились за самой кормой, крича: Татлин! Татлин!
1913
Цеппелин Рейсхшифф Л2 поднялся на шестьсот пятьдесят футов от анкерной мачты Йохеннесталь–Флюгхафен в берлинскую октябрьскую лазурь.
Татлин наблюдал, как из гондолы передних двигателей вырос белый шар пламени, прошитый венами алого. Пожар вырвался и побежал по длинному фюзеляжу цеппелина, оголяя его и оставляя за собой черную паутину скелета, задиравшего нос в клубах мятого белого дыма, набухавшего новыми огненными шарами.
Аэростат изогнулся и взорвался еще раз в падении, и потом еще раз взорвался, врезавшись в Берлин.
То был Год Гогенцоллернов. Поскольку Кайзер Вильгельм Вагнеру и Штраусу предпочитал народные песни, весь Берлин звенел базуки и балалайками, тамбуринами и цитрами. Ларионов повел его слушать ансамбль украинских певцов. Они приехали в Берлин зарабатывать себе состояние в германских парках и Kabarette. Татлин устал от моря. Он умел играть на концертине. Он вступил в ансамбль. Как будто сбежал из дому с цыганами.
Они пересекли всю Польшу в плацкартном вагоне, который трясло, как рессору, и бросало из стороны в сторону, будто траулер при встречном ветре.
Царь с Царицей ехали впереди в десяти бронированных пульманах. Императорский поезд въехал в Берлин между пятью шеренгами Рейхсвера, растянувшимися вдоль путей на две мили.
Они видели, как Кайзер гарцует на белом коне сквозь Бранденбург–Тор. На нем была гусарская форма дивизии «Мертвая Голова».
Берлин был весь заставлен риторической скульптурой так же, как Санкт–Петербург. Немцы гусями ковыляли вразвалочку. Противозаконным было ходить больше чем по–трое в шеренгу по широким мостовым, размахивать тросточкой или зонтиком, свистеть, петь, танцевать танго.
Они не могли оторвать глаз от автомобилей, от студентов с сабельными шрамами на щеках, от женщин в узких юбках, перехваченных ниже колен.
Они пытались устраивать концерты на улицах, и полиция пригрозила им тюрьмой. Устроились они в кафе. Самые дикие их песни не могли изменить выражений немецких лиц. Однажды вечером с ними попробовал заговорить поэт — расспросить об их родной земле. Упомянул бескрайние нивы. Они кивнули. Тройки. Много троек, подтвердил Татлин. Черный хлеб, расшитые платки, жирные помещики, далекие и одинокие перекрестки.
Татлин носил синие очки, как в море.
Кто же в Германии художники и поэты–футуристы?
Kulturbolschewismus!
Украинцев шокировал берлинский декаданс. Невинную Маринку оскорбляли те намеки, которые она могла разобрать. Но они же свиньи! говорила она. Татлину и Павлу Федоровичу полицейский офицер в монокле и без подбородка заявил, что, идя по улице, держаться за руки нельзя. Свиньи! сказала Маринка.
Управляющий их кафе возбужденно сообщил им, что про них, Украинских Народных Певцов, услышал Уполномоченный по Паркам, и они должны будут играть в парке по пути следования кайзеровского ricorso. После Бога и Армии Кайзер больше всего на свете любил народное пение. У него была собственная труппа кефалонских певцов. Он был знатоком народного костюма.
Они сыграли в парке, окруженные со всех сторон полицией. Балалайки их заливались трелями, концертина Татлина тряслась в темпе мазурки. Они пели про дочку мельника, которой никак не уснуть в полнолуние.
Кайзер остановился на своем белом коне. Усы его вспорхнули вверх, точно ласточкины крылья. Казалось, на нем — три накидки различной длины. Слушал он с великой серьезностью. Потом жестом подозвал адъютанта, тот подскочил, отдавая честь. Кайзер указал на Татлина.
Из глубины своего мундира Кайзер извлек золотые часы, отстегнул их от цепочки и передал адъютанту. Взмахнул рукой и двинулся дальше.
— Его Императорское Величество вручает этот знак своего признания слепому кобзарю, произнес адъютант, отдавая Татлину золотые кайзеровские часы.
Из того, что он сказал, Татлин не понял ни слова.
— Спасибо, с достоинством ответил он.
ПИКАССО
Часы Кайзера он продал и отправился в Париж. Улицы серого цивилизованного города пролегали между платанов и стен. Дома за этими стенами все казались ему консульствами. Воздух пах чесноком и мочой, табаком и конским навозом.
— Улей! сказал ему в кафе богемный художник. Должны знать в улье, la ruche.
Он располагался в доме №2 по Пассаж–де–Данциг, поблизости от скотобоен округа Вожирар. Там он найдет множество русских художников, художников всех национальностей, la vie tzigane.
То было самое странное здание на свете — двенадцатигранная пагода из дерева.
По ее центру зигзагом вилась лестница. На каждую площадку выходило двенадцать дверей, ведущих в двенадцать студий, все — клиновидной формы. Внутри над каждой дверью была укреплена кровать. Он слышал итальянскую, английскую, французскую речь. Где–то кричала и плакала женщина. Этажом выше — мандолина, этажом ниже — слово кубист на идише.
— Тут есть человек из Витебска в двух пролетах наверх, сказали ему, который пишет лошадей, играющих на скрипках, и руки с семью пальцами.
Когда Татлин нашел его, он как раз писал танцующую в небе корову — симпатичный веселый еврейчик с пучками кудрей и красивыми глазами.
— Сегаль, — представился он, жестом приглашая Татлина войти. Здесь, во Франции я вынужден подписываться так.
Он ткнул в подпись на холсте: Шагалл.
— Мне бы хотелось писать ее «Шагаллл», но французы весьма придирчивы и говорят, что так не пойдет. Вы слышите бедняжек коров? Их убивают прямо вон там. Поэтому я пишу так много коров. Вы художник?
— Художник, инженер, моряк, бродячий музыкант. Вы пишете немного как Ларионов.
Студия Шагала была вся завалена яичной скорлупой, жестянками из–под супа, перьями, русской вышивкой, рыбьими костями. К стенам пришпилены репродукции Эль Греко и Сезанна. Все картины, казалось, были написаны еще в Витебске.
За стаканом чая он сказал, что приехал сюда познакомиться с Пикассо.
— Так, сказал Шагал, моргая. Кем вас можно отправить Пикассо? Сандрар, загнул он один палец, Архипенко, Леже.
Снаружи мычали коровы, наверху по полу пнули стул. Шагал загнул еще несколько пальцев.
— Минуточку, сказал он, выскакивая за дверь.
Вернулся он с человеком, который, судя по виду, мог оказаться его братом.
— Нам повезло. Познакомьтесь — Хаимке Липшиц. С Пикассо он как член семьи.
— В Париже сейчас всё русское, объяснил Липшиц. Все говорят о Дягилеве и Нижинском. Игоря Стравинского, протеже Римского–Корсакова, все объявили гением.
Рю Шольхер, 5.
Он только что сюда переехал. В мае–июне он ездил в Сере, сказал Липшиц, с Хуаном Гри, чьи кубистские картины начала покупать мадмуазель Штайн из Америки. С Пикассо в Сере ездили Брак, другой мастер, и поэт Макс Жакоб. Ему нравятся люди. Он одинокий, даже укромный человек, который может писать по десять часов кряду, но до людей всегда жаден. Видел ли Татлин только что вышедшую книгу Гийома Аполлинера о кубистах?
— В Петербурге залы полны Пикассо, Матисса, Гогена.
— Да, но вы на много лет отстали.
Залаял волкодав. Консьержка вытерла руки о передник и взглянула на них поверх очков. В окнах студии он заметил скульптуры — классические головы, стесанные и ограненные в кубистской манере.
Низенький широкоплечий человек с ниспадающей на лоб прядью волос, глаза круглые, как у тюленя. Речь его была быстра, голос высокий. Татлин ничего не понимал.
Липшиц перевел.
Он резал бумагу и приклеивал на доски. Обои, газеты, плотную цветную бумагу. Там была бумажная гитара с бечевкой, натянутой вместо струн.
— Он пожирает мою студию глазами, сказал Пикассо Липшицу.
— Скажите ему, попросил Татлин, что я понимаю то, что он делает.
Пикассо пожал плечами.
— Такой и должна быть скульптура.
Он смотрел на вазочку мороженого на высокой ножке, которая вместе с ложечкой была вылеплена из гипса и раскрашена в лиловый и розовый горошек.
Пикассо ликовал. Он пожал Татлину руку.
— Буквально на днях, объяснил по–русски Липшиц, мексиканский художник Диего Ривера назвал эту маленькую вещицу глупенькой, претенциозной — безобразием. Сам я согласен с мексиканцем.
— Спросите у Пикассо, не мог бы я стать его учеником. Скажите ему, что я — моряк, привык к домашнему труду и буду мести ему полы и мыть кисти.
— Нет–нет, ответил Пикассо. Не теряйте ни минуты. Ступайте делать то, что хотите, что можете. Вместите работу всей жизни в одну неделю. Ничего не планируйте — делайте.