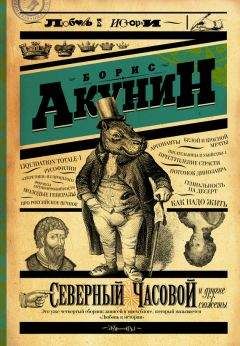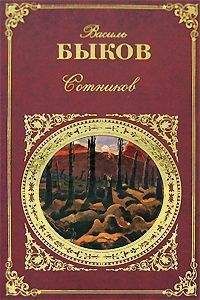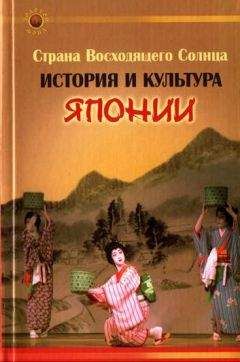Гай - Татлин!
Из окна Максиму Горькому видны тысячи рабочих, студентов, женщин. Большевики принесли свои красные знамена — те трепетали пламенем и кровью среди золота икон.
Заря занималась белым.
Батюшка Гапон поднял руку и шагнул вперед. Французский рожок, который чистили, пока не вспыхнул, разнес мелодию царского гимна, точно жаворонок, взмывающий с пшеничного поля.
Оркестр обсупили люди, державшие над головами — выше, как только могли, — иконы, безразличные золотые глаза которых, не мигая, смотрели в тонко сеявшийся снежок.
На шестах с кистями два человека несли цветную литографию Царя и Царицы в императорских палантинах дома Романовых.
Гимн, возносившийся громом ревущих вод, заглушался гулом слишком многих голосов и звучал невнятно и неритмично. За четыре квартала демонстрантов, заполнявших всю ширину мостовой, царский гимн уже терял и хвалебную четкость барабанов, и и лирическую медь труб и становился просто шумом реки на отмелях.
Никогда прежде на земле столько людей не пело вместе — даже когда все городские жители два часа кричали хором: Слава Диане Эфесской! Megal'e he Artemis Ephesion!
Париж целыми бульварами пел «Марсельезу», пехота Кромвеля в шлемах бежала за своими копьями, выкрикивая псалмы, спартанская фаланга, закутанная в красные плащи до самых пят, высокими торжественными голосами заунывно тянула пэон ужаса Аполлону–Целителю, но то были просто батальоны, следовавшие общему сердцебиенью волынки, тонкому треску барабана, грохоту длинных кинжалов о щиты, на которых золотом и зеленью нарисованы были змей Зевс и петух Асклепий.
Иконы выступали из снегопада, сияя: Христы–Пантократоры, Кириллы, Христофоры, Илии, Борис и Глеб на своих конях. Богоматери прижимались к своим младенцам Христам щека к щеке и двигались, запятнанные снегом, рядом с позолоченными деревянными крестами на шестах и пунцовыми знаменами большевиков.
Прошение, копией которого батюшка Гапон потряхивал, зажав в кулаке, уже находилось в руках Царя. В нем просили прекратить войну с Японией, разрешить русским людям выбирать представителей, которые бы заступались за них в думе, дать народу то, чего требовало его достоинство под Богом, — права жить по совести и мудрости, чтобы произвол власти не мешал.
Дойдя до Зимнего Дворца, они увидели, что он весь тих и закрыт, его флорентийские колоннады исчерчены снегом, высокие крыши не видны за падающими хлопьями.
— Царя! закричал батюшка Гапон. Пускай Царь выйдет на крыльцо!
Вся площадь, парад и променад перед дворцом заполнились народом — тысяча, две, в платках, пар от дыхания у каждого перед лицом. Иконы, флаги и кресты парили над головами по–карнавальному весело.
В первом ряду батюшка Гапон с другими священниками и целая шеренга женщин опустились на колени.
— Святой отец! вскричали все разом. Царь–батюшка!
И все колокола всех соборов Санкт–Петербурга зазвонили, поскольку день был воскресный, и хоть в церквях сейчас были только богатеи, громкий чугун и темная бронза колоколов сотрясали морозный воздух своим зовом.
Ярость голосов и колокольная музыка приглушили первый залп огня, ворвавшийся в толпу слева, едва замеченный.
Синий дымок от ружейных стволов неподвижно и горько повис в воздухе.
Женщину ранило в грудь. Две другие поддерживали ее под локти, а она оседала на колени, крича, и кровь заливала ей подол. Молодой человек в синей студенческой тужурке опрокинулся на спину, закинув руки за голову. Сталевар, ослепленный, все поворачивался из стороны в сторону, не сходя с места, и звал жену.
— Что случилось? закричал батюшка Гапон. Они что, не видят, что туда сейчас выйдет Царь?
Залпы раздавались от северного угла дворца через каждые пять секунд. Первая шеренга стреляла, опускала винтовки к ноге, поворачивалась кругом, делала два шага и снова кругом, перезаряжая. Вторая шеренга выступала на два шага вперед, становясь первой, и по команде Пли! отдававшейся благородным голосом, похожим на рвущийся шелк, стреляла.
Сапожник, чей нос разворотило пулей, захлебываясь в собственной крови, ползал меж ног спасавшихся бегством людей, пытаясь укрыться.
Казацкие кони рысью вынеслись из высоких дубовых ворот дворцовых дворов, открывшихся одновременно. Они были напуганы, их приходилось сдерживать очень жестко. Выстроившись в неровные шеренги, казаки обнажили шашки.
— Держаться подальше от крови, скомандовал есаул, повторив приказ налево и направо, а не то поскользнетесь. Вперед!
ТИРАСПОЛЬ
— Все дело, скажет Осип Мандельштам позднее, в качестве солнечного света на стене.
Он говорил о цивилизации.
Когда Владимиру Евграфовичу Татлину было десять лет, он проводил лето в Тирасполе с Михаилом Ларионовым, которому было четырнадцать, и над верхней губой у него уже намечался пушок.
Владимиру Евграфовичу не нравился отец: тот бил его, — а к мачехе он не вообще никаких чувств не испытывал. Отец его, инженер, переезжал из города в город в поездах с зелеными окнами, через которые внутрь влетали сажа и гнилой дым.
В Тирасполе же ячмень был опутан паутиной, между окон водились осы, а в корзинках для вязания спали котята.
Дедушка Михаила Федоровича был моряком, жевал плиточный табак, родился и вырос в Архангельске и очень много рассказывал о льде.
Звали его Дедушка Ларионов.
Дедушка Петровский, помещик, был отцом матери Михаила. Ел он обычно посреди ночи, чтобы не умереть с голоду. Завтракал на заре, пока в каштанах еще висел туман. Чай пил из винного бокала, присербывая.
В десять кушали еще, обедали в полдень, затем чай в четыре, ужин в шесть. Уже потом, когда в воздухе сгущались светляки, а роса начинала возбуждать ревматизм старика Петровского, домашние, за исключением кухонной прислуги, месившей в корытах тесто и выуживавшей вилками из крынок маринованных угрей, отправлялись на боковую. В полночь же поднимались снова, сонные и голодные.
— Во сне можно умереть от голода, говорил Дедушка Петровский.
Волосы его были увязаны в красный плат, а из–под синей рубашки выглядывала фланелевая ночная сорочка. Холодный борщ и черный хлеб, водка и чай стояли у него под лампой, точно голландский натюрморт.
Владимир с Михаилом спали на пуховой перине в чердачной комнатке под самой крышей, и концы длинных балок были все изукрашены резьбой, словно пламя дракона на иконе Георгия Победоносца.
За птичьим двором и воротами на пастбище стоял амбар — заброшенный, поскольку выстроили новый, и теперь весь утопавший в гигантских подсолнухах. Жимолость и шиповник овладели подступами, по ночам вваливаясь в прохладные стойла, а днем снова выглядывая наружу. В стропилах осы строили свои бумажные гнезда. Кот Глеб ходил туда за мышами и сверчками.
Владимир с Михаилом дождливыми днями пробирались туда сквозь заросли подсолнухов, чтобы что–нибудь найти — куски старья, деревянные ведра без дна, змей, колодезную цепь, ящериц.
Забираться в старое зернохранилище, утратившее большую часть своей передней стены, почему–то было хорошо. Огромные коробы и грубые корявые листья подсолнухов образовывали джунгли с одной стороны. Остальные стены были добела истерты и пыльны от грубой муки и отрубей, заплетены паутиной. Сквозь подсолнухи падал бледнозеленый прохладный свет.
Именно здесь, как вспоминал Татлин всю свою жизнь, ему впервые явилось видение комнатных интерьеров — задолго до того, как корабельные каюты и уставная аккуратность моряков научили его правилам организации внутреннего пространства. И когда Мандельштам говорил о цивилизации как о качестве солнечного света на стене, между тем думая о садах Фиесоли и о свете цвета упорного золота, цвета медовых сот на стене, бегущей вдоль макового поля в Пэстуме, сам он вспоминал это старое зернохранилище в амбаре под Тирасполем.
Они с Михаилом в альбоме для гостиной нашли картинки Японии и прочли о бумажных стенах, о комнатах без мебели. Они читали о строгой расстановке низкорослых деревьев, о ритуальном размещении глиняной посуды, свитков, метелок, ширм и сложенной одежды.
Татлин подметал пол старого зернохранилища и смахивал пыль со стен веником, принесенным из большого дома. Еще чище он выметал гусиным перышком, сгоняя ручейки тончайшей пыли на дощечку.
— Наша японская комната!
В угол они поставили камень, вымытый в желобе, а около него — бутылку, в которую воткнули один–единственный синий василек. Скамья, на которую раньше ставили подойники, служила им столом в центре комнаты.
Они сидели по–турецки и кланялись друг другу от пояса.
В большом же доме ему нравился уют пуховых перин, узкие высокие окна, сумеречные углы с их иконами и свечами. Ходили там тихо. Постоянно кто–нибудь дремал. По веранде тоже бегать нельзя, потому что кто–то все время сидел в плетеных креслах вокруг плетеного стола — пил чай и читал вслух из толстых газет, страницы которых разрезались костяным ножом.