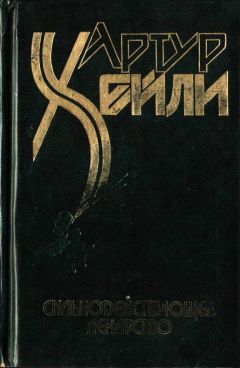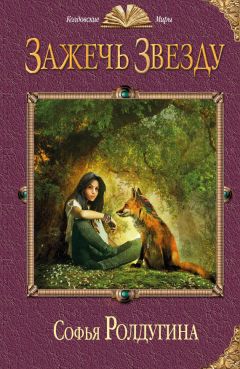Валерия Шубина - Время года: сад. Рассказы
Этот день хорошо помню. Знакомый конверт торчал из почтового ящика. Я ухватила бумажный угол, приютивший подпись Орфёнова, и нечто увесистое оказалось в моих руках, а затем и перед глазами.
Пауза необходима, чтобы ясно услышать шуршание сухих листьев, исходящее от послания. Основной корпус текста посягал на звание самобытной прозы. Но ни одна строка не была конгениальна порыву ветра. Читая, я видела листья, они кружились и падали и не совпадали с текстом природы, впечатанным в память. Это вызывало досаду.
Увлекшись, я не сразу сообразила, что не обращаю внимания на телефон. А он вызванивал второй тур. Орфёнов? Он. В первом приближении. Покинувший вечность. Какой-то лепет, в который не стала вникать. Сразу сказала: «Читаю. Это прекрасно. Но ваш текст должен быть уничтожен». И, сказав, поняла, что он изменился в лице. Сейчас наберется мужества, спросит: «А почему, позвольте узнать?» «Уничтожен, как осенние листья. Их сгребают в кучу и жгут». Он молчал. «Мне ли говорить о сожжении рукописи вам, почитателю Гоголя! — сказала я. — При самом удачном раскладе этот вариант всегда остается. Поедем за город, ко мне в сад, и сожжем на костре». «Но почему?» — простонал он. «Потому что победитель не получает ничего!» «Но я ни на что и не претендую!» — завопил он. «Это кажется. Вы благополучны до отвращения». — «Я благо-полу-чен?» — «Да. И не спорьте. Вы слишком хорошо устроились в своих домашних микротрагедиях, в этих своих эссе по телефону. Требуется мощная встряска. Новая мера вещей. Новое зрение. Как это у классика: “И внял я неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход…”» — «Но тогда почему вы одобрили мой текст?» — «Потому что на человеческом уровне он почти безупречен. Повторяю: на человеческом. А речь о другом уровне, более совершенном. Отслоение от повседневности только начало. А пока у вас слово и дух в оппозиции к созвучиям природы. Глухи, как тетери, упоенные собственным голосом». — «Боюсь, вы переоцениваете возможности дяди Левы. Самое большее, на что он способен в вашем саду, это дышать свежим воздухом и подбирать упавшие яблоки». «Значит, “увидел зверя и вспять обратился”?» — строго спросила я. Он ответил: «Давайте дождемся момента, когда время, Бог и Татьяна Ивановна будут на моей стороне, ведь вы имеете дело с тепленьким существом для чистилища».
И все-таки в сад мы поехали. Правда, для сбора яблок.
Трудно сказать, чем был озабочен Орфёнов, исполненный волей Татьяны Ивановны. Забившись в угол вагона, он не отрывал глаз от рукописи, взятой в дорогу.
— Мои занятьица исключительно для собственного развлечения, — пояснил он на всякий случай. — Приучил себя быть при литературе, в любом отдалении, любом качестве. Приткнулся к окрестностям ее владений, так как вообще не к кому было приткнуться при живых-то родителях. А что такое биография писателя, если не история его ушибов в нежном отроческом возрасте!
«Да-да, его занятия от безделья». Казалось, сумки, тележка, котомки, изобличая опрятную руку Татьяны Ивановны, подтверждали: это байбак, лоботряс, Обломов, чесатель затылка.
До самого сада никто не мешал Татьяне Ивановне обнаруживаться в личности муженька. Нельзя сказать, что Татьяна Ивановна слишком преуспела, тем не менее след ее кропотливой ежедневной работы был очевиден — как всякий творческий человек, Орфёнов чувствовал необязательность своего присутствия в этом мире. Зато в направлении Свана, где цвел боярышник… И не только боярышник.
А поток времени, раздираемый электричкой, сквозил мимо, приближая к саду — местообитанию гигантской яблони, которая так и называется — райская. Ветер клонил траву на откосах, навевая ей серебристый оттенок. Рядом стелились колонии желтых цветочков. На них и обратила внимание Орфёнова: ведь они вызвали бы восхищение его учителя Пруста.
— О лютиках у него настоящая поэма в прозе, — сухо согласился Орфёнов, — а вот об одуванчиках ничего.
— А это не одуванчики.
— Разве? — удивился Орфёнов. — А очень похожи.
— И весна в первой поре тоже похожа на осень. Так и они. Кульбаба осенняя называются. По сути, трава забвения. Но трава возрождения уже наготове и весной объявится ангельскими голубыми цветами. И знаете, как они называются?
Орфёнов молчал.
— Не-за-будки, — напомнила я.
— Ах, да! Романтические, распускаются под луной. Нарисованные обитатели фарфоровой посуды.
— Классические. Никогда не появляются на руинах.
Так память языка увела Орфёнова от тени Татьяны Ивановны в мир загадочно-обаятельных аналогий, ошарашила единением слов и законов природы с их союзом забвения и бессмертия.
Следующие десять минут не стоят того, чтобы о них говорить подробно. Станция. Аллея тополей. Калитка. Сад.
Потрясенная яблоня осыпалась куда попало: в траву, на грядки, в приствольные круги других деревьев и на те самые незабудки, которые свежими ярко-зелеными кустиками проросли сквозь лезущий отовсюду пырей.
Орфёнов подбирал яблоки молча, не обращая внимания на мои призывы оглядеться вокруг, оценить красоту первой осени. Сумерки делались все пронзительней, больней для души. Темнота приглушала краски в угоду какой-то своей тайне, быть может включенной в невидимое и недоступной ни глазам, ни рассудку. И обольщения садом с Орфёновым не случилось. И когда хлопнула калитка и около нее обозначился человек, Орфёнов тоже не поднял головы. Он продолжал подбирать яблоки.
Нет, пришедший не был незваным гостем, но и званым не назовешь. И вообще — не гостем, а помощником, привыкшим устраивать из своих появлений сюрпризы. Он как-то не укладывался в нормальные договорные отношения, или они не применились к нему, потому он появлялся когда хотел. Я было отказалась от его услуг землекопа, фотографа, плотника, но он не обратил на это внимания, понимая, какую невидаль собой представляет: ведь он знал наизусть добрую треть Шекспира.
Сей джентльмен оторвался от калитки, накренился и повалил флоксы — их последний вздох напомнил о себе сходством с ароматом брусники. Поднявшись, сделал два шага и тем прикончил семейку безвременника, в сиреневой безмятежности празднующую свое родство с весенними крокусами. Затем рывком ухайдакал компанию настурций, приникших к опоре оранжевыми капюшончиками, заодно прихватил и рудбекии — всей родней они тотчас повисли с перебитыми хребтами, уткнув рыжие головы в землю. Добравшись до крыльца, пришелец вскарабкался по ступенькам и во всем безобразии, облепленный влажными лепестками, нарисовался в проеме веранды. Место показалось ему тесноватым. Он простер взгляд за окно. На траве безмятежно пасся Орфёнов. Сбоку стояла я.
От обычных представлений это отличалось тем, что для начала были выбиты стекла. Кто имеет хоть крохотный домик, понимает, что значит остаться с пустыми рамами и диким виноградом на руках. Затем погромщик вывалился на крыльцо и принялся сотрясать воздух немыслимым английским: «О боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства!»
Строки Шекспира заставили Орфёнова наконец-то поднять голову. Он замер и стал глядеть на меня, как видно, желая сверить свое впечатление. Но что хорошего можно узреть на лице человека, готового разорвать погромщика? Неизвестно, как в подобном случае повел бы себя Шекспир, но, думаю, и от него аплодисментов бы не последовало. Еще бы, такого Гамлета не видел никто — с топором. Именно вид этого инструмента, взятого на веранде, сильно тормозил мое бешенство. Декламатор все оценил (а такие люди чувствуют кожей), его тоже не устроило что-то, и, бросив топор, он объявил следующий номер — поджог, если посторонний не уберется.
В это время показалась Луна. Как некий знак, как символ театра «Глобус», над которым начертано: «Весь мир лицедействует».
Явление луны преобразило Орфёнова. Законник или упырь, сидящий в нем, как по команде отозвался голосом автомата:
— Запомните второй закон Льва Константиновича. С эйнштейновской четкостью и изяществом он пока не сформулирован, но в общих чертах это закон творческой зрелости, когда человек, превративший свою жизнь в служение, выходит на новый рубеж, но реализоваться почему-либо не может. Например, умирает.
— Врешь! — заорал погромщик. — Такие люди не умирают. Они сгорают! Ярко, красиво. Как космическая ракета. Давай, хрен-валент, превращу тебя в факел и устрою пожар, как Нерон?
Луна была слабая, очень простая и совсем неначитанная. В общем, она была вечная. Немного античная. Все, что случалось под ней, ее мало заботило. Она держала путь к череде тополей, осеняющих дорогу, и собиралась проследовать по голым верхушкам. Ее безразличие было так сильно, что для чего-то разумного просто не оставалось чувств. Хотелось погасить ее и самой провалиться сквозь землю. И появиться с другой стороны Земли. Но! Еще предстояло вывести Орфёнова за калитку, ступая к станции без оглядки. И потом в ожидании электрички утешать себя видом все той же луны. Ничего хорошего о ней, связанной с безумием человека, в голову не приходило. А все казалось, растопыренные драные тополя катили ее, блудницу, и, словно подгулявшие мужики, передавали из рук в руки.