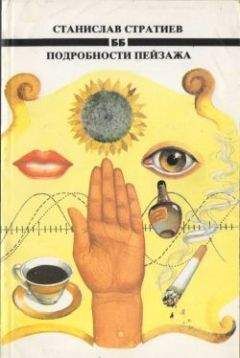Энни Пру - Горбатая гора
— Дружище, — сказал Джек, — ну у нас тут, ***, и положеньице. Надо придумать, что нам теперь делать.
— Да что мы сейчас можем сделать? — ответил Эннис. — Что говорить, Джек, я построил жизнь за эти годы. Девочек своих люблю. Альма? Она не виновата. У тебя тоже там в Техасе ребенок и жена. Да и мы с тобой навряд ли сможем себя прилично вести, если что случилось там, — он мотнул головой в сторону своего дома, — снова на нас найдет. Сделаем это не в том месте — и мы покойники. На это узду не накинешь. Я боюсь от страха обделаюсь.
— Должен сказать тебе, дружище, кое-кто мог видеть нас тогда летом. Я туда приезжаю через год, в июне, думал вернуться — не стал, удрал в Техас. А Джо Агирре был в конторе и сказал мне, говорит: «Вы, ребята, нашли как проводить время там наверху, да?» Я только глянул на него так, а стал уходить, смотрю — у него за спиной здоровенный бинокль. — Он не стал говорить, что бригадир откинулся в своем скрипучем деревянном кресле и добавил: «Твист, вам не за то платили, чтоб вы оставляли собак у овец в няньках, пока сами розочки чистите», и отказался принять его снова. Джек продолжил: — Да-а, ну и удивился же я, как ты меня тогда стукнул. Никогда не думал, что ты можешь так нечестно врезать.
— Я с братом рос, Кей-И, он на три года старше, колотил меня, дурачка, каждый день. Отцу надоело, как я реву дома, и когда мне было лет шесть, он меня подзывает и говорит: знаешь, Эннис, у тебя проблема, и тебе надо с ней разобраться, а то это будет продолжаться, пока тебе не стукнет девяносто, а Кей-И девяносто три. Ну, я говорю, он больше меня. А папаша говорит: тебе надо врасплох его застать, ничего не говори, сделай ему побольней, убирайся по-быстрому — и продолжай в том же духе, пока до него не дойдет. Лучшее средство чтоб тебя услышали — побить. Так я и сделал. Подкараулил его в уборной, набросился на него на лестнице, вытащил из-под него подушку ночью, пока он спал, и отдубасил как следует. Ушло дня два. С тех пор у меня с братцем никаких проблем. Урок был такой: не говори ничего и разделайся с этим поскорей. — В соседнем номере зазвонил телефон, все звонил и звонил и вдруг перестал на середине гудка.
— Другой раз меня не подловишь, — сказал Джек. — Слушай. Я вот тут думаю, если б нам с тобой вместе завести маленькое ранчо, коров с телятами разводить, лошади твои, вот была б классная жизнь! Я уже говорил, я с родео завязываю. Я не самый конченый наездник, но у меня нет столько денег, чтоб выбраться из всего этого болота, и у меня нет столько костей, чтоб их еще ломать. Я все обмозговал, Эннис, я придумал, как нам с тобой это провернуть, нам вдвоем. Папаша Лурин, могу поспорить, даст мне стадо, лишь бы я исчез. Уже кой-чего говорил насчет…
— Эй-эй, попридержи коней. Так не пойдет. Нельзя нам так. Я тут крепко застрял, сам себя заарканил. Я не могу так уйти. Джек, я не хочу быть как те парни… ну видел, наверно, таких? И я не хочу быть покойником. У нас там были два старых мужика, ранчо вместе держали, Эрл и Рич — отец всякий раз шуточки отпускал, как их встретит. Это были те еще ребята, стреляные воробьи, только все равно они были посмешищем. Мне было сколько? — лет девять, Эрла нашли в канаве мертвого. Его избили монтировкой, шпорами, привязали за член и таскали, пока он не оторвался, просто кровавый кусок мяса. На что были похожи следы от монтировки, так это на ошметки жареных помидоров у него по всему телу. Нос оторвался, пока они его тягали по камням.
— И ты это видел?
— Отец постарался. Он нас туда нарочно отвел. Меня и Кей-И. Отец смеялся над этим. Черт, почем знать, он это и сделал. Если б он был живой и сейчас сунулся в эту дверь, будь уверен, он понесся б за своей монтировкой. Чтоб два парня жили вместе? Нет. Думаю, все, что мы можем, это встречаться изредка где-нибудь подальше, у черта на куличках…
— Изредка — это как? — сказал Джек. — Изредка — это раз в четыре ***ных года?
— Нет, — ответил Эннис, не став выяснять, чья это вина. — Я представить себе не могу, что ты завтра утром уедешь, а я снова пойду на работу. Но если ты не можешь ничего исправить, надо терпеть, — сказал он. — Черт. Я смотрю на людей на улице. Такое случается с другими людьми? Что, мать их, они тогда делают?
— В Вайоминге такого не случается. А если и бывает, не знаю, что они делают, может, в Денвер едут, — сказал Джек, садясь на кровати и отворачиваясь. — Да мне пофигу. Эннис, сукин сын! Возьми пару выходных. Прямо сейчас. Умотаем отсюда. Бросай свое барахло ко мне в кузов и поехали в горы. На пару дней. Позвони Альме и скажи, что уезжаешь. Давай, Эннис, ты только самолет мне подбил, мне мало. Это ж не ерунда какая-нибудь — что тут у нас происходит.
В соседнем номере снова раздался безответный звонок, и, как будто отвечая на него, Эннис поднял трубку на столике возле кровати и набрал свой номер.
Отношения между Эннисом и Альмой медленно разъедала ржавчина, ничего серьезного, просто расширяющаяся трещина. Она устроилась продавщицей в бакалейный магазин и видела, что ей всю жизнь придется работать, чтобы успевать платить по счетам Энниса. Альма попросила его пользоваться «резинками», потому что боялась еще раз забеременеть. На это он ответил нет, сказал, что будет рад оставить ее в покое, если она больше не хочет от него детей. Она сказала чуть слышно: «Захотела бы, если б ты мог их прокормить». А сама подумала: все равно от того, чем ты любишь заниматься, много детей не получится. Ее обида росла понемногу с каждым годом: объятия, которые она мельком увидела, его поездки на рыбалку с Джеком Твистом раз или два в год и ни одного отпуска с ней и девочками, его нежелание сходить куда-нибудь развлечься, его страсть к низкооплачиваемой, занимающей весь день работе на ранчо, его склонность отворачиваться к стенке и засыпать, как только он падал на кровать, его неспособность найти приличную постоянную работу в округе или на подстанции — все это медленно затягивало ее в какую-то трясину, и когда Альме-младшей было девять, а Франсин семь, она сказала себе: что это я делаю, вожусь тут с ним? — развелась с Эннисом и вышла замуж за ривертонского бакалейщика. Эннис вернулся на ранчо, нанимался то тут то там, не особо преуспевал, но был очень рад снова работать со скотом, иметь возможность все бросить, уволиться, если надо, и отправиться в горы в любой момент. Он не чувствовал никакой особенной обиды, было только смутное ощущение, будто его обсчитали, и он делал вид, что все в порядке, пришел на День благодарения к Альме с ее бакалейщиком и к детям, сидел между девочками, травил байки, шутил, старался не быть угрюмым папашей. После пирога Альма увела его на кухню, принялась мыть посуду и сказала, что беспокоится за него и что ему стоит снова жениться. Он заметил, что она беременна — где-то четвертый-пятый месяц, подсчитал он.
— Один раз обжегся, — сказал он, прислонившись к столу; казалось, что кухня стала ему мала.
— Рыбачите еще с этим Джеком Твистом?
— Бывает, — он подумал, что она сотрет рисунок с тарелки, если будет так тереть.
— Знаешь, — сказала она, и по ее голосу он понял — сейчас что-то будет, — я все удивлялась, почему ты никогда не приносишь домой ни одной форельки. Всегда говорил, что поймали кучу рыбы. И однажды ночью, перед тем как ты отправился в одну из этих своих поездочек, я открыла твой ящик для снастей — на нем еще была этикетка, после пяти-то лет! — и привязала записку к леске. Там было написано: «Привет, Эннис, привези домой немножко рыбки. Целую, Альма». А потом ты возвращаешься и говоришь, что вы наловили целую связку рыбы и съели ее там. Помнишь? Я заглянула в ящик, когда смогла, и там была моя записка, все еще привязанная, и эта леска в жизни не касалась воды. — Как если бы слово «вода» вызывало своего домашнего родственника, она открыла кран, споласкивая тарелки.
— Это ничего не значит.
— Не ври, не делай из меня дуру, Эннис. Я знаю, что это значит. Джек Твист? Джек Поганец. Вы с ним…
Она перешла границу. Он схватил ее за руку, брызнули и покатились слезы, загремела тарелка.
— Заткнись, — сказал он. — Не лезь не в свое дело. Ты ничего про это не знаешь.
— Я сейчас закричу, я позову Билла.
— Давай, б***, прямо сейчас. Давай, ори, сука. Пускай приходит. Он у меня будет лизать этот гребаный пол, и ты тоже. — Он еще раз крутанул ей руку так, что у нее запылало запястье, нахлобучил шляпу задом наперед и хлопнул дверью. В тот вечер он пошел в бар «Черно-синий орел», напился, ввязался в короткую грязную драку и ушел. Он долго не пытался увидеться со своими девочками, рассудив, что они найдут его сами, когда вырастут, наберутся ума и станут жить отдельно от Альмы.
…Они больше не были молодыми людьми, у которых все еще впереди. Джек раздался в плечах и в бедрах, Эннис остался тощим как вешалка, зимой и летом ходил в стоптанных сапогах, заношенных джинсах и рубашках, в холодную погоду добавляя парусиновую куртку. На веке у него выросла доброкачественная опухоль, оно нависало и придавало лицу угрюмый вид, разбитый нос сросся криво.