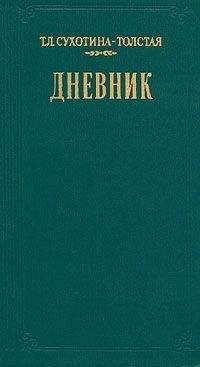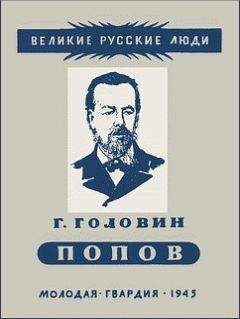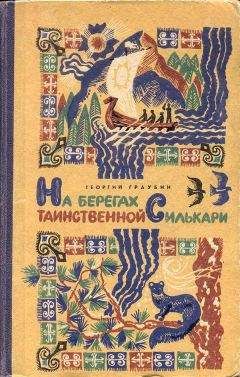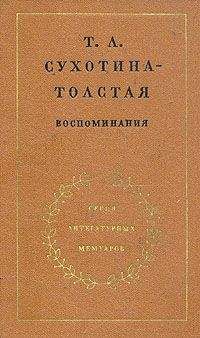Александр Попов - Человек с горы
Налили еще, но уже спокойно, без порывов жажды, и выпили не спеша.
Старик улыбнулся, чему-то покачал головой. Пелифанов заметил.
– Что, дедушка Иван, усмехаешься? Вроде осуждаешь, – сказал электрик, откусывая от сухаря.
– А чего мне, сынок, вас осуждать? – ответил Иван Степанович. Помолчал и значительно-тихо произнес: – Вы сами себя осудили.
– Не понял! То есть как же так – присудили?
Григорий непонимающе смотрел на старика и электрика и косился на бутылку, как бы побаиваясь, что она может исчезнуть.
Иван Степанович не спешил с ответом, разворошил в топке алые головни, полюбовался на метавшийся огонь, с неохотой перевел взгляд на захмелевшего, раскрасневшегося Пелифанова и спросил:
– Совсем не догадываешься? Ежели подумать?
– Гришка, может, ты догадался?
Пелифанов толкнул скотника плечом, но тот не ожидал – упал с топчана и в первое мгновение, быть может, подумал, что посягнули на бутылку. Крепко сжал ее в клешнятой загорелой руке и кивнул головой на стакан:
– Выпьем?
Но Пелифанов досадливо отставил стакан подальше:
– Ну, тебя! Дай с дедом поумничать. – Беспричинно засмеялся, но замолчал и прищурился на старика: – Ты, дед Иван, голову не морочь: как я себя мог присудить?
– Хм, – усмехнулся Сухотин, – молодой, а сообразиловка не фурычит, что ли. Пьешь – вот и присудил себя, что тут неясного? Зверь не пьет, дерево не пьет – чисто и ясно живут. Вон, гляди на корову: ежели пила бы горькую, какое молоко ты брал бы от них, милок? Не молоко – а гадость! А ежели яблонька пила бы – какое яблочко ты срывал бы? Поганое! Так-то! По естественному закону живут корова и яблоня, а потому и радуемся мы их молоку и плодам. А что пьяный человек? Какой плод от него? Вот и выходит, добрый человек, что присудил ты себя к нерадостному плоду. И тебе от него худо, и людям, что рядом с тобой, не радостно. Так-то!
– Н-да, старина, рассудил ты, – посмеялся Иван, но не сердито и не зло. Задумался, помолчал. – Слушаешь тебя – умно сказано, а как копнешь твои мысли – глупость видишь. Что же ты, старый, сравнил человека с коровой и деревом? Нехорошо. Обидно! С коровой нас рядом поставил. Григорий, тебе обидно?
Скотник издал неясный звук и, кажется, не понимая разговора, смотрел на стакан. Ему хотелось еще выпить. Пелифанов досадливо махнул рукой на Григория и обратился к Сухотину:
– Что же, дед, выходит, по-твоему, мы, люди, не выше коровы и дерева?
– Кто выше, а кто, милок, и ниже.
– Вот как! Я, к примеру, как – выше или ниже?
– А зачем мне тебе напрямую отвечать? Сам ответь: дай корове водки -вот тебе и ответ будет.
– Глупый ты, старик, глупый, как вот эти коровы, – вспыхнул и с вызовом посмотрел на Сухотина электрик. – Человека сравниваешь с коровой! Че-ло-ве-ка! Не зря, поди, ты не люб нам: не уважаешь че-ло-ве-ка!
– Врешь! – привстал старик и сверху посмотрел на электрика. – Уважаю, но не того, паря, которого и с коровой жалко сравнить.
– Битый ты, дед Иван, – сказал Пелифанов, – и если я тебе вдарю -совсем загнешься. Живи! Но не мешай нам жить. Понял?
Пелифанов выглядел грозным, но старик уже давно никого не боялся: ему в жизни так часто доставалось, что притупился в нем или умер – раньше старика – страх.
– Понял, – ответил он тихо и, казалось, равнодушно.
– Ты, дед, как-то хитро сказал – будто другое понял.
– И то понял, и другое, мил человек, понял.
– Хм, чего это другое?
– А то, сынок, что с коровами мне, поди, лучше будет, чем с тобой. Пойду к ним спать. Бывайте!
– Ишь ты! Не, точно, Гришка, я сказал, что не зазря деда Ивана всю жизнь колошматили: было и есть за что. Наливай! Вмажем, да на боковую завалимся.
Так и сделали – выпили и спать легли.
Старик ближе к коровам приткнулся: "Худо мне рядом с людями, с такими. Не понимают и не принимают они меня, не понимаю и не принимаю сердцем я их".
Вспомнил свою гору, избу и собаку Полкана, который, наверное, волнуется – куда же хозяин запропастился? Вспомнил старик, и отхлынула от сердца горечь, посветлело в душе, будто посреди ночи взошло для него солнце. В стойлах, загонах сопели коровы, косили перламутровые глаза на незнакомого человека, который шептал им:
– Что, коровушки, не спится? Какие думы вас беспокоят? Наверное, вспоминаются летние пастбища да травы. И меня, родимые, тревожат мысли: как так вышло, что люди невзлюбили меня. Знаю – упрямый я! Жил бы себе как все -поди, сказали бы вы, ежели говорить умели бы. Вот ведь какая штука – не могу жить как все. Не могу и не хочу, так-то!
Коровы жевали сено, мотали своими большими головами и сочувственно-влажно смотрели в глаза старика, будто понимали его.
Ему хотелось скорее попасть к жене, Ольге Федоровне; страшно болела голова, а до дома добираться километра два.
Иван Степанович, испугавшись и вздрогнув, проснулся от крика: Екатерина Пелифанова, наконец, к утру нашла своего пропавшего мужа.
– Ах, ты, чертополох! Чтоб ты лопнул от водки, ирод! Дрыхнешь? Нажрался? И в ус не дуешь? Я, как дура набитая, убиваюсь по всему Новопашенному разыскиваю, а он спит. Думала, не замерз ли где в снегу… а он, кровопивец… последние деньги пропивает… семья живет впроголодь… -кричала, заводясь, женщина, пятнисто-красная, со сбившимся на плечи платком, и больно тыкала граблями в бока и живот неохотно сползавшего с нагретого сена мужа.
Иван протер глаза, вырвал у жены грабли и закинул в стойло.
– Цыц, баба, – мрачно взглянул он на жену диковатыми сонными глазами. -Пил и буду пить, ты мне не указ.
– А детей, изверг, кто будет кормить-поить? Я, что ли, баба, а?
С перебранкой, которой не виделось конца во всей их жизни, муж и жена вышли на улицу, и покатились их голоса по деревне.
Выбрался и Сухотин на свежий воздух. Глубоко вздохнул, внимательно посмотрел на горящую в распадке луну, послушал азартный собачий лай и хриплое кукареканье петухов, потопал на месте по молоденькому хрусткому снегу и подумал: " А как разумно устроено все в небесах и на земле. Красота, куда ни посмотришь. Но не вбирает человек в свое сердце небесную и земную красу. Пакостно живет. Собака брешет для дела, а человек зачем же на человека лает? Жить бы и жить людям в ладу и добре на этой радостной земле, в родимом Новопашенном, ан нет!.. А я хотел, хочу и буду хотеть до скончания дней моих по законам неба и земли жить… потому я и чужак им".
Произнес Иван Степанович слово чужак и стало ему обидно:
– Не правы они, не правы!
Старик скорбно вздохнул и пошел по сумрачной, но просыпающейся деревне к своему дому, к жене. Надо проведать. Как она там? Да и сын Николай, наверное, приехал на выходные, и внук гостит у старухи – соскучился старик по ним, давненько не видел.
7
Иван Степанович увидел блеклый огонек в стайке – видимо, Ольга Федоровна кормила свинью и козу. Ворота оказались на засове, стучать – не дело, можно в такую рань разбудить всех домашних и соседей. Иван Степанович пролез через дыры в заборах, прошел к своему дому огородами и тихонько постучался в стайку.
– Кто там? – тревожно спросила Ольга Федоровна и высунула из-за двери свое маленькое морщинистое, но такое родное и дорогое Ивану Степановичу лицо. – У-у, ты, что ли, Иван? – искренне удивилась она.
– Ага, – ответил старик, протискиваясь в стайку через узкие и обмерзшие понизу двери. – Что, Олюшка, кормишь архаровцев? – спросил он о козе и свинье.
– Ага, – ответила жена, присаживаясь на перевернутое вверх дном ведро и прижмуриваясь на мужа в тусклом свете лампочки, с лета засиженной мухами.
Приехавший из города сын собирался сердито, решительно поговорить с отцом: мол, хватит чудить, и мать знала, что Николай будет резко говорить, не жалея отца. Надо как-то подготовить мужа, и она осторожно начала:
– Отощавший, что ли, какой-то? Все думал, поди, день и ночь напролет, а мысль, Ваня, что пиявка: сосет кровушку из сердца. Кто не думает – толстый, что боров, вон, как Васька, – махнула она головой на большого поросенка, увлеченно поедавшего картофельное варево.
– Душу, Ольга, мысль не съест, – ответил старик, присаживаясь рядом с женой на другое перевернутое ведро. – А тело наше, кости да мякоть -дряхлые, чего уж жалеть: помрем – все одно сгниет. А душа, кто знает, может, и улетит куда.
– Вот-вот, от людей ты уже улетел на свою гору, теперь и душой норовишь от нас сигануть? – лукаво улыбалась Ольга Федоровна.
– От людей, Ольга, никуда не улизнешь, как не исхитряйся, – говорил старик и тайком любовался женой: старая она, морщинистая и сухая, а все любима им. В радость ему видеть ее. – Толку-то, что ушел я от людей на гору, все равно надо спускаться, хотя бы даже за водой или продуктами.
– Вот и ладненько, – ласково улыбалась Ольга Федоровна, гладя руку старика, – и спускайся, Ваня, навсегда в Новопашенный: зачем шалоболиться? Все равно все пути ведут к людям.
– Нет, Олюшка, – накрыл Иван Степанович своей ладонью руку жены, – не хочу к людям: плохо мне рядом с ними. Издали, понимаешь ли, спокойнее и мне, и всем.