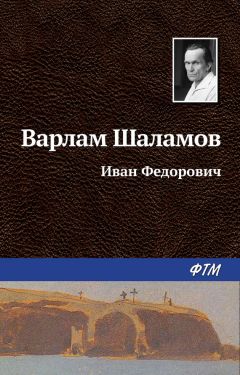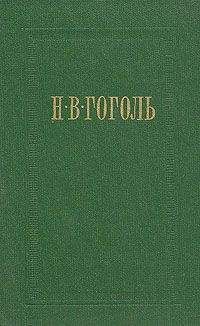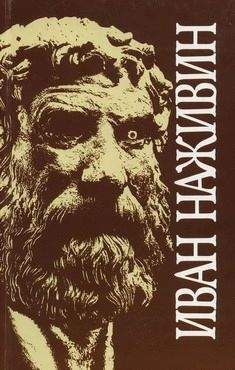Алексей Притуляк - Первое апреля октября
— А где Петюник? — спросил обескураженный воспоминанием Лука.
— Допился, — мрачно ответила жена. — В последний раз говорю тебе, Воробьёв, брошу я тебя. Так и знай, Сашенька: брошу и уйду.
— Куда? — вопросил он, пытаясь вспомнить свою фамилию.
В углу, на столе, жужжа моторчиком, яростно застучал в барабан психоделически окрашенный в розовое заяц.
Kill Jill
Зайка, зайка, ты не видел Джилл?
Монте-Вильяно, 2007
Я в последний раз щекочу пальцами костяную рукоять ножа — ласково, дразня, вызывающе.
Нож совершенно спокоен. Холодно спокоен. Не то что я. У меня по спине противной щекоткой стекает струйка пота. До самой поясницы — под пояс джинсов, туда, где противней всего.
Нужно заканчивать с этим. В конце концов, я так долго шёл к этой минуте, столько раз я готов был отказаться от задуманного, так много раз всё срывалось из-за глупой случайности или моего вечного страха, который хватал меня за руки в последний момент, подкатывал к горлу тошнотой, едва стоило представить лезвие ножа, мягко и скользко входящее в печень Джилл, её кровь, которая сначала неуверенно, а потом безудержно проступает через рубаху и течёт по моим пальцам, тусклый выкрик, который издаст женщина, шорох, с которым её теряющее жизнь тело повалится на землю, глухой удар головы о щебенку…
Да, нужно заканчивать. А не то, всё опять сорвется, теперь — из-за моей не вовремя и не в меру разыгравшейся фантазии.
Она карабкается по тропе вверх. Из-под её кроссовок осыпаются вниз, мне навстречу, камешки и пыль. Вот она споткнулась, ойкнула, взмахнула руками…
Пора!
Я догоняю её, на ходу отерев о штаны вспотевшую ладонь, вынимаю из кармана нож, обхватываю рукоять покрепче, ощущая томительную слабость в ногах и подкатывающую к горлу тошноту. Скорей, а не то я опять не сумею!
Левой рукой обнимаю Джилл сзади, покрепче, прижимаю ее спину к своей груди. Она поворачивает голову, на губах её недоуменная то ли улыбка, то ли усмешка. Правой рукой, не целясь, ударяю туда, где должна быть, по моим расчетам, печень…
Горло перехватывает тошнотворный спазм, рот наполняется блевотиной прежде, чем я успеваю прийти в себя.
— Что с тобой? — спрашивает она тревожно, обернувшись. — Что случилось, Пит?
Не отвечая, наклоняюсь в сторону, к чахлому кусту жимолости, прикорнувшему у тропы, скрученный в три погибели болью сжавшегося в точку желудка.
Даллас, 2000
Я просыпаюсь от солнечного луча, щекочущего веки. Приоткрываю глаза и вижу обнажённую Джилл, стоящую спиной ко мне, на фоне окна, задёрнутого только лёгкой прозрачной органзой. Она укладывает волосы. На мгновение отвлекается, чтобы потянуться — всем своим прекрасным телом, упруго и сладко. Я вижу как поджимается её попка, как прогибается позвоночник, как, белея, упираются в паркет пальцы, когда она встаёт на цыпочки. А мои ноздри всё ещё явственно ощущают аромат её тела и волос, которым я упивался до половины ночи.
Я любуюсь ею, подавляя в себе желание вскочить, схватить её в охапку, перенести на кровать, впиться поцелуями в тело. Я люблю её. Я люблю её нежно и дико, осторожно и жадно, трепетно и безжалостно. Я знаю, что она вся принадлежит мне, всегда, в любое время. И это знание наполняет душу особым чувством уверенности, гордости и несказанной нежности.
Почувствовав мой взгляд, она оборачивается, улыбается.
Счастлив ли я?..
Я счастлив.
Вот ради этой утренней минуты, ради этой внезапной и такой беззащитной улыбки любимой женщины и стоит жить.
Мне не приходится вскакивать и переносить её на кровать. Она сама подходит, грациозная и сияющая в своей здоровой молодости и наготе, наклоняется надо мной, целует — влажно и нежно, томительно, свежо, провоцируя…
Монте-Вильяно, 2007
— Эй, — произносит она, склоняясь надо мной, кладя руку на плечо. — Ты в порядке?
Может быть, сейчас? Очень удобный случай. Схватить её левой рукой за шею, притянуть к себе… Но печень у неё справа, а я не смогу ударить в печень спереди, правой рукой, если вплотную притяну жену к себе.
— Пит?
— В порядке, — бормочу я, выпрямляясь.
Правая рука скользит в карман, за носовым платком.
Но платок я переложил в левый, потому что правый предоставлен на сегодня ножу.
Наткнувшись на ставшую уже прохладной кость рукояти, пальцы сразу начинают мелко дрожать от возбуждения…
Только не думать, не думать!..
Заставить себя не думать.
Действовать на инстинктах — инстинкты все сделают за меня…
Я выхватываю нож, отвожу руку чуть назад — небольшой замах…
Но печень… Печень справа, а я не могу ударить туда из положения, в котором нахожусь по отношению к Джилл.
Она не сразу понимает, что я там такое достал, чуть прищуривается, пытаясь разглядеть…
Наконец, разглядела.
— Зачем тебе нож? — спрашивает она, приподняв брови.
Не отвечая, делаю шаг к ней и влево. Понимаю, что ударить в нужное место всё равно не получится. Остаётся схватить её за правую руку и потянуть на себя и вправо, поворачивая нужным боком. Одновременно ещё полшага влево, руку с ножом отвожу за бедро.
Она не сопротивляется — не понимает. Её брови поднимаются ещё выше, она удивленно и чуть раздраженно смотрит на меня, как на чокнутого.
Ненавижу этот взгляд, эти брови!
Рука выскальзывает из-за бедра, по дуге снизу-вверх и справа-налево бьет её ножом в бок.
Чуть отклоняюсь, тяну её за руку ещё вправо, чтобы посмотреть, куда я попал. Мне кажется, что промахнулся.
На её рубахе (дорожная, белая, в коричневую звездочку) виден разрез, который на глазах темнеет от проступившей крови…
— Ну что? — спрашивает она. — Опять?
Не отвечая, я падаю на колени, извергая из уже пустого желудка кисло-горькую желчь.
Мне никогда, никогда не убить её!..
Даллас, 2004
«Ненависть ждёт в углу» — пела какая-то из моих тогда любимых групп…
— Куда всё уходит? — произносит Джилл, ковыряя вилкой пережаренный на завтрак омлет.
— Что именно? — неохотно спрашиваю я. Мне не очень хочется разговаривать с ней после вчерашнего.
— Именно — всё, — пожимает она плечами. — Ты, например.
— Я ухожу на работу, — недовольно отвечаю я, отодвигая тарелку с чёрными несъедобными остатками. — Если ты помнишь, я зарабатываю для тебя деньги. И уже опаздываю.
— Да, — кивает она. — Я помню. Ты вернёшься?
— Идиотский вопрос.
— Может быть, нам поехать куда-нибудь? Сменить обстановку?
— Прямо сейчас?
Она усмехается, опускает голову.
— Пит… Ты… Ты ещё любишь меня?
— Всё, — бросаю я от двери. — Я ушёл. Целую.
Я не знаю, куда всё уходит. Я не знаю, куда ухожу я. И куда ушла она, я тоже не знаю.
Ненависть ждет в углу. И если по этим углам не проходить хотя бы иногда с метлой, паутина ненависти затянет весь дом.
Даллас, 2004. Я ещё не ненавижу ее. Я её просто не люблю.
Монте-Вильяно, 2007
— Гауска! — радостно произносит кто-то за моей спиной.
Вздрогнув от неожиданности, поворачиваюсь.
На тропе позади нас, в пяти шагах, стоит невесть откуда взявшийся бронзово-загорелый бородатый мужчина. На нём костюм цвета хаки, длинная чёрная борода, кривые ножны на поясе, у груди ладно пристроился висящий на шее потертый автомат.
— Та гауска беран жоа! — произносит он на чёртовом местном наречии и довольно скалится. Зубы у него белые и ядрёные. А может быть, они кажутся такими на фоне чёрной бороды, усов и загорелого лица. И чёрного потёртого автомата.
— Что за чёрт… — произношу я, морщась от вкуса блевотины во рту.
— О! — восклицает абориген, радуясь, кажется, ещё больше, словно я тепло его поприветствовал. — Американо?
— Си, — киваю я, поднимаясь с колен. — Американский подданный. Хотите проблем?
— Аблас эспаньоль, американо? — вопрошает он.
— Си, — отвечает вместо меня Джилл.
Я поворачиваюсь и удивлённо смотрю на неё.
А она улыбается бородатому. Стоит, кокетливо отставив ногу, изогнувшись, подперев бок рукой и улыбается этому чёрту с автоматом.
А у него на голове берет с зелёной ленточкой.
Нас предупреждали, что не стоит лезть далеко в горы, что можно нарваться на маки — местных революционеров-партизан, противостоящих режиму.
Но как же мы могли не лезть далеко в горы. Ведь мне нужно убить Джилл. Не делать же это на северных склонах, на глазах у целой деревни!
А может быть, сейчас?.. Вдруг этот абориген решит подстрелить нас обоих. Тогда я не успею…
А на тропе, теперь уже впереди, появляется ещё один бородач с автоматом.
— Де беран куар, поске Эстебан? — обращается он к первому.