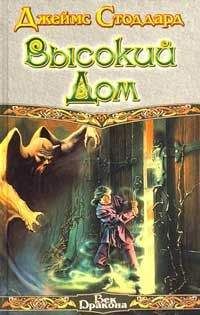Владимир Шаров - «Мне ли не пожалеть…»
И вот комсомольское собрание. Она секретарь ячейки, а этот будущий философ куда-то там опоздал. Опоздание ерундовое, замяли его сразу, с тех пор прошло уже две недели, и вдруг оно предлагает сегодня это заново обсудить. Садимся, сначала идут другие дела, вопрос же об опоздании последний. Собрание получилось долгим, все устали и не чают, как бы скорее закруглиться, тем более, что предмет яйца выеденного не стоит. Не забудьте еще, что они друзья, настоящие верные друзья. Их группу в университете самой лучшей считали. И вот секретарь берет слово.
Начинает она совсем по-детски, но детски и скучно. Типа того, что сегодня сменную обувь забыл — завтра с учителем первый не поздороваешься, послезавтра мячом стекло разобьешь, а "потом шаг за шагом или бандит и убийца, или того хуже — шпион, предатель родины, враг народа. Все ее слушают, и обвиняемый и мы, в этом суде — заседатели, и одно думаем, что она — сбрендила? Потому что и тогда это перебор был. Да и докладывает она сей бред сбивчиво, неуверенно, будто противится, а ее заставляют, давят на нее: говори, мол, и говори.
Наконец она к фактам переходит, и сразу в ней полная перемена, и в словах и в том, как она их произносит. И ей и нам ясно, что теперь она — сама; нам даже в голову прийти не может, что ее кто-то заставляет, настолько все четко, искренно, с верой. А она расходится и расходится, мы еще не поддаемся, потому что это свой, хороший парень, свой в доску, но она о нем дальше говорит, о том, чего мы, конечно, знать не можем. И про фронт, и про лагерь, и про то, что он известным диссидентом станет, в итоге же уедет из страны. В общем, всю жизнь, прямо одно к одному как он к этому шел, она и про то говорит, как это в нем росло и вызревало, и даже про то, что он будет чуть ли не главным их тех, кто в конце концов нашу страну развалит. То есть сделается победителем, нас победит. И вот она разгорается, будто костер, с каждым словом разгорается и тычет в него пальцем и кричит, и кружиться начинает, столько в ней силы, а в нас сначала страх, ничего, кроме страха, а потом ее вера, и страха уже нет, и мы понимаем, что так и будет, все будет так, как она нам сказала. И мы ждем последнего — что с ним делать, но она не говорит, я и сейчас не знаю, почему не говорит. А он сидит перед нами, тоже знает, что все это правда, еще. больше нас это знает. И он тоже ждет, что мы сделаем с ним, и никакой милости, наверное, ему от нас не надо. Господи, представить себе, что ты свою родину погубишь!
Собрание кончается ерундой — простым выговором. Но с этого дня он для нас чужой, не наш, изгой, враг. И ни он, ни мы ничего поделать тут не можем, да и не пытаемся. По жизни он идет, как ему было предсказано, тютелька в тютельку, чуть ли не до дня сходится, и все думает о ней, все к ней возвращается. Когда встречает кого-нибудь из старых знакомых, боком и словно между прочим, но спросит о ней, потому что никак не может понять, пророк ли она действительно, то есть то, что он делал и делает, — изначально ему было предназначено (он теперь человек глубоко верующий), и тогда, значит, вина его смягчена, ни он сам, ни кто другой — по этой дороге Господь его вел, — или все-таки, она его вела. Ведь это она его вытолкнула, выгнала его ни за что, она сделала его для нас чужим, загнала в эту колею. Всю жизнь она одна им правила, и ни Бога здесь, никого не было — она одна. И он все хочет поехать к ней и с просить — она или не она, а если она, то зачем, почему, но так и не решается».
Не знаю, хорошо ли я вам передал то, что каждая на свой лад рассказывали девушки, но японцам идеи этого режиссера нравились не меньше первой исторической части. Во всяком случае не реже, чем раз в месяц находился гость, готовый финансировать постановку «Вишневого сада», а в случае удачи и везти ее в Японию. Однако сестры Лептаговы на моей памяти от денег отказывались, говоря, что все это в прошлом, давно нет ни того режиссера, ни труппы, ни театра. Кроме того, они уверены, что он бы и сам теперь так ставить не стал.
В школе я в пятом классе вступил в члены краеведческого кружка, а уже в седьмом меня выбрали его председателем. Столь стремительной карьерой я целиком и полностью обязан нашему соседу по коммунальной квартире Алексею Леонидовичу Трепту. Столько интересных сведений, сколько я приносил от него, не мог добыть никто.
Как то я зашел к нему без предупреждения, он был мрачен, но попросил меня остаться.
«Я с похорон, сказал он, — сегодня умер мой друг, который всю жизнь писал странные пьесы для одного актера, ни единая из них, Саша, так и не была поставлена. Другой его страстью, — продолжал Трепт, — был город. Москву он знал изумительно, куда лучше, чем я. Он свято верил, что дома живые; как люди, они рождаются, живут и умирают. Улицы же — это некое сообщество, или стая, где одно поколение сменяет другое, и, если хочешь уцелеть, сохранить место под солнцем, надо драться. Впрочем, говаривал он, некоторым зданиям случается выбиться и в вожаки. Он любил сравнивать улицу с государством, в котором периоды медленных, спокойных реформ кончались все сметающими революциями, и жалел дома, которые каждый раз слезливо и рахитично пытались доказать, что они не чужие, не враги этой совсем другой улице, что они рады новым товарищам и им хорошо с ними».
Алексей Леонидович еще довольно долго вспоминал о друге, размяк, и вдруг согласился дать мне свои мемуары, о чем я давным-давно мечтал и о чем множество раз его просил. Многие эпизоды записок Трента я знал и раньше, он сам мне их рассказывал, но держать рукопись целиком мне еще не доводилось. В сущности, мемуары Трепта — это рассказ об одном человеке, фамилия которого тоже Лептагов, так что, возможно, и сестры из чайного домика, и те два Лептаговых, о коих они рассказывали японцам, — его дальняя родня. Если это правда, все, что было выше, — неплохое предисловие.
Эти мемуары тоже начинались с похорон. Трепт писал: «С кладбища я вернулся уже в сумерках и принялся вспоминать Лептаговский хор, тех, кто в нем пел. В молодости я думал стать театральным художником, рисовал декорации, мизансцены, но потом жизнь сама собой повернулась, и я вот уже сорок лет не брался ни ад сангину, ни за карандаш. Теперь ни с того ни с сего мне вдруг снова это понадобилось. Неизвестно почему я опять захотел увидеть их всех, увидеть в костюмах, в интерьере. Я знал, помнил этих людей очень давно, но как бы лишь их дух, во плоти же забыл и теперь думал, что, одев, вспомню.
В комнате, в которой я живу вот уже пятнадцать лет, с поздней зимы сорок седьмого года, все пропитано этой безобидной театральностью. Наверное, и на меня это действует. До революции дом славился любительскими спектаклями, и, кажется, не зря: многие из сегодняшних знаменитостей начинали здесь. Спектакли игрались на втором этаже, в большой зале; моя комната угловая — значит, раньше тут помещалась левая часть сцены.
Украшение моей комнаты — высокий голландский камин с золочеными замковыми воротами и пышным ампирным навершием. К сожалению, труба то ли замурована, то ли просто забита всякими тряпками, так что разжигать его мне не приходилось. Сам по себе дом вполне убог, известка выщерблена до середины кирпича, и они торчат, как ребра скелета, но внутри, и в подъезде и на лестницах, — высокие стрельчатые окна, витражи, толстенные дубовые перила. Дом, конечно же, умирает: третий этаж вообще пуст, там обвалились стропила и жильцов переселили в другие места, говорят, что то же скоро ждет и нас.
В двадцатые годы залу с наборным паркетом и богатой лепниной по потолку (особенно много ее, где крепились люстры) разбили на одиннадцать больших комнат, кухню и еще пару темных кладовок. Коридор проложили едва ли не зигзагом — в ту пору никому и в голову не приходило скрывать, что комнаты — это тоже результат революционного передела, а революционная справедливость важнее любой эстетики и всего прочего. Товарищ мой говорил, что такие коммуналки напоминают ему большие помещичьи усадьбы с кучей разного рода новаций: парки, оранжереи, сады, конный завод, и вот все оказалось поделено и никому не нужно. Многое, неизвестно почему, еще уцелело, но оно разбито на части, цель и смысл их утрачен. После всемирной широты и размаха люди хотят снова в гнездо, хотят крова и тепла, главное, тепла, и эти остатки больших сквозных пространств выглядят насмешкой, лишь раздражают.
После обеда ко мне пришел хороший мальчик, сын моего соседа, зовут его Саша. В школе у них есть краеведческий кружок, для которого ребята собирают и записывают воспоминания ветеранов. Идея состоит в том, чтобы из рассказов нас, участников, свидетелей всего и вся создать подлинную летопись эпохи. Среди тех, кто это придумал, сам Саша. Нынешняя тема разговора была оговорена им и мной заранее, и я начал сразу, без разгона.
Я стал ему рассказывать, что видел, когда десять лет назад Россия вновь, как бывало уже не раз, уверовала в скорую всеобщую гибель. Обычно, когда я говорю, я хожу, речь разматывается как нить, фраза цепляет другую фразу, и все идет гладко. Но некоторые истории рассказывать мне нелегко, то ли просто подводят нервы, то ли еще почему, но я быстро начинаю сбиваться, путаться; это, понятно, не прибавляет уверенности. Так было, увы, и сегодня. На этот случай у меня есть один очень хороший прием. Свой рассказ я принимаюсь петь. Тридцать лет занятий у Лептагова не прошли даром, и пением передать, сказать то, что я хочу, мне гораздо легче, чем простой речью. Пение — удивительная вещь, оно как бы освобождает тебя, ведь бывает, что даже заики, которые по полчаса не могут сдвинуться с одного-единственного слова, прекрасно поют. И на меня пение действует самым замечательным образом, я остаюсь совсем тот же, так же переживаю, так же волнуюсь, так же переполнен воспоминаниями, но никакого препятствия во мне больше нет.