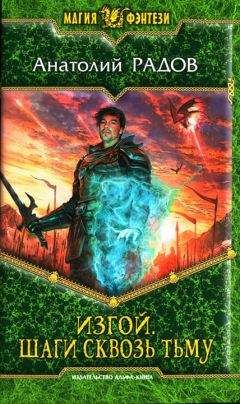Юрий Пахомов - Столкновение
— Погоди, нам еще в училище поступить нужно, а заодно и закончить.
— Поступим. Куда мы денемся.
Все это было очень давно. Было, да сплыло, остался только старчески пришепетывающий голос Левона в телефонной трубке.
3
В кабинете — так называлась бывшая наша с женой комната — на стене среди фотографий родных и близких висит увеличенный портрет моего отца. Он в форме речника, улыбается. Улыбающимся я видел его редко.
Мать я почти не помню — нечто теплое, ласковое. И еще в памяти остался запах оладий — мое любимое блюдо. В последнее время Маша редко балует меня оладьями, я стал грузнеть, а это, по утверждению жены, вредно для сердца. В семьдесят все вредно: есть, пить, не говоря уже о других земных радостях. Матери не стало, едва мне исполнилось четыре года. Отец, вернувшись с войны, разыскал меня в детском доме под Костромой, куда нас эвакуировали в сентябре сорок первого года. Детдомовский период почти выпал из памяти. А что вспоминать? Голодуху, чужую ношеную одежонку, драки в умывальнике из–за куска хозяйственного мыла? Биография моя началась с того момента, как мы с отцом сели на пароход, у которого на носу еще стояла пушечка, правда, уже без снарядов. В дороге я объелся американской тушенки, и батя отпаивал меня кипятком.
Отец оказался однолюбом, не привел в дом мачеху, нас, мужиков–отломышей, окружили заботой обитатели барака, где гуляли все сообща, дрались, ругались и все же жили одной семьей. С тех времен стал я ценить людскую доброту, которая нынешним москвичам неведома.
Помнится, любимым моим делом было собирать отца в рейс, укладывать его капитанский чемоданчик. Перво- наперво поллитровку «Московской» с белой головкой, затем огурцы бочечного посола, шмат круто посоленного сала, летом — овощи с капотнинского рынка.
— Водка, сынок, только для сугрева, ежели простуда случится, рюмка–две, не более, — пояснял отец, — да с друзьями посидеть в отстое. На работе ни–ни. У нас с этим делом строго, как у шоферюг. Один прокол — и прости–прощай штурвал.
Потом шли мы от барака к остановке автобуса, на котором отец добирался до Южного порта. Капотня еще подремывала, попадались лишь редкие рабочие с нефтеперегонного — пересменка уже схлынула. Шли мимо приткнувшегося к обрыву кладбища, поросшего цепким репейником едва ли не в человеческий рост. Жужжали шмели, порхали бабочки, в дождь с кладбища тянуло мокрой землей.
Отец шагал неспешно, слегка прихрамывая на левую ногу, — ранение.
— Ты, брат, не балуй, — наставлял он. — И с водой поосторожней. Река внимания требует. А ты у меня один, другого не будет. И учись, без учебы нынче шагу не сделаешь.
На автобусной остановке уже стояли речники. Степенно с отцом здоровались:
— Привет, Степаныч. Никак пацана с собой в рейс берешь?
— Рано ему. Вот второй класс закончит, тогда и возьму. А пока он и швабры в руке не удержит. А на судне, сам знаешь, лишний балласт ни к чему.
— Неужто Гришка только первый класс одолел? — удивлялся другой, старичок с виду, в выцветшей мичманке. — Крепкий шкет, по росту дак пятиклассник.
— В нашу породу. У нас в роду мелких не было. Батя мой, дед его, — чумак, обозы по шляху гонял, тот росту был чуть меньше трех аршин. Меня голод в тридцать третьем укоротил маленько, так ведь тоже Бог не обидел.
Об отце знал я немного. Родился в селе под Полтавой, в голодные годы поредевшая семья стронулась с места в поисках хлеба и заработков. У деда кум работал в Москве на заводе «Мостижарт», при нем кое–как и устроились. Отец способный был к учению, закончил семилетку, речной техникум, прочно осел в Москве, перед самой войной стал капитаном буксира. А дед с бабкой и двумя моими дядьями вернулись в родное село. Во время войны все погибли: дядья на фронте, деда с бабкой вместе с хатой немцы спалили.
Про войну отец говорил неохотно и то, когда выпьет.
— Эх, Гриша, ведь и рассказывать нечего. Буксир мой включили в Волжскую флотилию, пулеметик на палубе поставили, так, пукалка, больше для звука. Под Сталинградом такая заваруха была — страх. «Мессера», как коршуны, наседали, вода кипела. — Отец шевелил густыми бровями, отрешенно глядя в угол. — И вот что удивительно. Рядом маломерные суда и пароходы побольше в клочья рвало, а у нас лишь пробоины от крупнокалиберных пулеметов. Убитые были, как им не быть, а буксирчик мой на плаву оставался, будто заговоренный. Потом на Дунайскую флотилию перекинули, десанты высаживал. Ранили, в госпитале чуть ноги не лишился. Да что гуторить, повезло, жив остался.
Рейсы в навигацию длились неделю, а то и две. За мной присматривала соседка, старуха из бывших монахинь. Умер отец скоропостижно, стоял в рубке, ждал разрешения на прохождение шлюза и вдруг осел, стал соскальзывать по переборке — сердце отказало. Кореша потом говорили: «Повезло Алексею. Настоящая капитанская смерть».
Отца хоронили друзья речники, народу собралось много, было и начальство. На красных подушечках несли ордена и медали, я и не знал, что у отца столько наград. Еще запомнилось кладбище в Кузьминках, воронье на надгробиях и ясное голубое небо, с которого вдруг стал накрапывать дождь. Ухал оркестр, капли дождя падали на медные трубы музыкантов.
Меня приютила дальняя родственница по материнской линии, до того видел я ее раза два — тетя Шура работала проводницей, моталась на поездах по всей стране. Так я оказался в огромном доме у станции метро «Студенческая». Станция тогда еще строилась, с балкона видны были груды рыжего грунта, а дальше, в дымке, проступали сооружения Киевского вокзала, слышно было тяжелое громыхание поездов, которое временами перебивал пронзительный крик маневрового паровоза «кукушки».
Тетка занимала в просторной коммунальной квартире две смежные комнаты. Такого беспорядка мне еще не приходилось видеть: повсюду — на полу, на диване, под обеденным столом — лежали груды новой одежды. Тетя Шура сбывала ее каким–то людям, они никогда не заходили в квартиру, а ждали на лестничной площадке у лифта. Маленькая комната, спаленка, завалена была кулями с крупой, макаронами, о стекла билась серебристая моль, а на подоконнике стояли пирамиды банок с забродившими овощными консервами. На балконе громоздился старинный ларь, в щели пробивались бледные ростки картофеля. И пахло в комнатах чем–то гнилостным, кислым.
Я ошеломленно озирался. В нашей «каюте» в бараке поддерживался суровый порядок, отец по субботам устраивал авральную приборку, привлекая меня, а уж на буксире я девяти лет швабрил с матросами палубу, и в мои обязанности входила малая приборка в отцовской каюте.
Тетя Шура, заметив мою растерянность, рассмеялась:
— Чего глядишь, Гришуня? Ни до чего руки не доходят. Устраивайся в спаленке, продукты, что испортились, выкинь к едрене матери. Хлопчик ты самостоятельный, хозяйствуй сам.
Я и хозяйствовал.
Через неделю, вернувшись из очередной поездки, тетя Шура замерла на пороге, изумленно оглядывая жилье.
— Ой, Гришуня, у меня отродясь такой чистоты не было. Неужто все сам?
— Сам. Я и места общего пользования мыл — по графику наша очередь. Батя меня с восьми лет к судовой жизни приучал.
Тетя Шура осела кулем на стул, подбородок у нее задрожал, и она заплакала:
— Сиротинушка ты мой. К судовой жизни сызмальства… — Утерла ладонью слезы и, остро глянув на меня, спросила: — В нахимовское училище пойдешь?
Я представил себя в морской форме, и у меня сладко заныло под ложечкой:
— Я бы пошел, да разве туда поступишь? В нахимовское небось только отличников берут. А у меня трояки.
— Глупость! Ты сын моряка.
— Речника, теть Шура.
— Героя войны — вот главное. И сирота. Я до министра дойду. В соседней квартире старая училка живет, заслуженная, она тебя по всем предметам подтянет. А отметки выправим. Я те отличником сделаю.
Я тогда еще не знал могущества тетки, ее удивительную пробивную способность. Позже я ни разу не встречал человека, который бы с такой легкостью проходил в различные высокие инстанции, добиваясь своего. Ее малограмотные, с чудовищными грамматическими ошибками заявления, да и сама она, простецкая, в форменном кителе с колодками медалей — человек из народа — производила на чиновников завораживающее впечатление. Тетка могла пробить автомобиль «Москвич» без очереди, дачный участок, талоны на мебельный гарнитур, и знакомства у нее были соответствующие: директора распределителей, жены начальников главков, генеральши. Их властные и вместе с тем заинтересованные голоса частенько звучали в телефонной трубке. «Тимохина у аппарата», — неизменно отвечала тетя Шура, и лицо ее во время разговора постоянно меняло выражение — от внимательно–напряженного до лукаво–насмешливого. Всем этим знакомым и полузнакомым людям она что–то привозила, что–то бралась отвезти, сдавала вещи в комиссионку, добывала дефицит, похоже, ее увлекал сам процесс, потому как реальный приварок был незначителен.