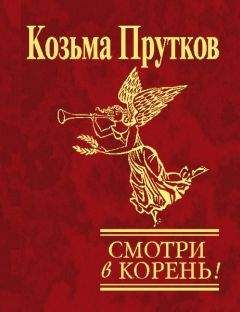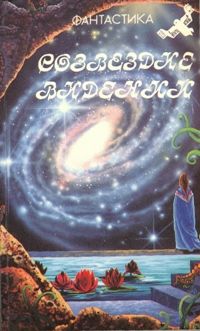Марина Попова - Марина Попова
В подъезд дома, где я родилась более полувека назад, я вхожу не сразу. Пытаюсь справиться с сердцебиением, но лифт (уже, конечно, без лифтерши) игнорирую. В поисках наших следов поднимаюсь на пятый этаж пешком. К своему изумлению, встречаю покалеченную мраморную ступеньку. Это Леська молотком отбил от нее кусок для игры в классики. Я звоню. Сердце в пятках. Вдруг тетя Зоя, как в детстве, шуганет, скажет, что Леська занят и нечего шляться?! Я совсем тронулась. Ее, может быть, и в живых-то нет?
Открыли мне сразу. Очень даже живые и узнаваемые тетя Зоя, и Верка — старшая сестра, и бородатый, отчего мало узнаваемый Лесь. Еще мелькала за спинами незнакомая старушка, оказавшаяся впоследствии соседкой, которую мне почему-то полагалось помнить.
Мы столпились в прихожей. Оттого, что говорили все сразу, и от переполнявших меня чувств я не разбирала слова. И тут Верка, по-прежнему красивая тревожной красотой, выдающей в ней не совсем здорового человека, звучно закричала, и это были первые слова, которые я разобрала:
— Чита, какая ты стала красивая! А одета-то как! Заморская штучка!
Читой дразнили ее в детстве, и это совсем забытое имя неожиданно расставило все по своим местам. Кличку придумала вредная Верка, чем попортила ей много крови. Во время ссор Лесь, прищуривая зеленые в темных точечках глаза и неприятно растягивая звуки, с какой-то даже оттяжкой произносил "Ч-ч-и-и-и-та!"
Она чувствовала себя очень несчастной особенно оттого, что не могла придумать достойный и уничижительный ответ. Выручила няня. Она предложила называть обидчика Тарзаном. Как раз в кино шел этот трофейный фильм.
С тех пор об их нечастых ссорах знал весь двор:
— Чи-и-т-а-а!
— Тарз-а-а-н! — переругивались они, и дразнилки, как теннисные мячики, прыгали с балкона на балкон, эхом отзываясь в колодце двора.
Из передней мы переместились в большую комнату. Когда-то эта комната с хрусталем и коврами, которые дядя Паша, Леськин папа, навез из Германии, казалась неимоверно богатой и вызывала завистливое восхищение соседей. Все осталось, как было, только прибавилось несколько спальных мест, отчего комната стала напоминать пятизвездочную ночлежку.
Наверное, что-то отразилось на моем лице, так как Верка, цепко следившая за мной, вдруг запричитала, как деревенская бабка:
— Живем, как плебеи?! Да? Как плебеи живем?
Тетя Зоя на нее цыкнула.
Что Верка имела в виду? Следы обнищания?
Но я увидела совсем другое. Минувшее оставалось совершенно живым! Несмотря на смену эпох, исчезновение большой страны, прошедшие годы, известность моего друга — ничего не изменилось в этом доме. Знакомое, неподвластное времени пространство преданно ожидало моего возвращения. Даже гипсовый слон-копилка с задранным хоботом остался на старом месте на пианино. Жив курилка! Как устоял ты, дружок?
Слон этот служил нам верой и правдой. Под заглушающие звуки этюдов Черни в исполнении музыкального Леськи, я вытряхивала мелочь из нутра копилки. Собрав нужную сумму, мы уматывали в кино или объедались мороженым.
Получалось, что жизнь меня хороводила, дурачила, чтобы наконец стряхнуть сюда, в центр, как я стала подозревать, самого на земле уютного пространства.
На двери комнаты несовременно висели бархатные портьеры, и мне представилось, что время — это пыльный занавес из потертого бархата и драной парчи, внезапно приоткрывший крошечную сцену, на которой топтались мы — состарившиеся дети Чита и Тарзан — статисты, которым не на что надеяться. Судьба никогда не подаст знака. "Следующий, — сказал заведующий", — так говорили в нашем детстве, — и мы уйдем в небытие в порядке общей очереди.
Продается квартира
Прошло семь месяцев после моего возвращения в Бостон. Я была занята своей жизнью, когда внезапно ощутила беспокойство от незавершенности визита: казалось, что чего-то я недоделала, недосмотрела, недопоняла…
Пока я выясняла отношения с прошлым, в Америке начали уходить мои друзья — мое поколение. Я растерянно стояла посреди этого поля болезней и смертей, а друзья валились один за другим. Еще немного, и очередь дойдет до нас.
— Чита, тебе, кажется, кто-то что-то обещал? — временами издевался внутренний голос.
Однажды ранней весной, почти на ощупь, вела я машину по мокрому хайвею. Дождь разбивался о переднее стекло, превращаясь в бегущую горизонтальную строку. Это напоминало Леськин телевизор с толстой линзой (у нас такой роскоши не было), где через графические помехи на экране пробивался голос Клавдии Шульженко: "…как это, как это я не права, я и не думала злиться. Ах, как кружится голова, как голова кружится…".
В машине в чувственном джазовом дуэте обволакивающий голос Луи Армстронга выяснял отношения с Эллой Фицджеральд. На миг длинный свет встречной машины ослепил меня, взметнув в памяти прошлое лето, кухню моего друга, где мы пили за встречу, закусывая салатом оливье, который весь мир называет русским. Нежно и пьяно узнавали мы друг друга, целовались и снова испытывали эффект близнецов…
До меня донеслись голоса тети Зои, Верки и непонятно зачем приглашенной соседки. Они что-то живо обсуждали, поглядывая на нас. Я не могла разобрать слов, да и ни к чему мне было.
Свет фар, ослепив, разбудил сознание, и я вдруг "услышала" слова соседки:
— …я ее мать хорошо помню. Очень красивая женщина. Отец тоже был похож на итальянского артиста. После развода они разменялись и съехали. Их квартира сейчас продается…
Стоп! Вот оно что! Вот для чего нужна была соседка! Теперь я знала, что делать!
Поставив машину в гараж, я пошла в кабинет дожидаться, пока в Городе наступит утро. Я шарила по Интернету в поисках риэлторского агентства поблизости от каштановой аллеи. В два часа ночи по нашему времени я дозвонилась. Агентша подтвердила, что квартира по этому адресу продается!
Беда заключалась в том, что номера квартиры я не помнила. По Интернету мы подписали контракт, и я, чтобы лишний раз убедиться, что это та самая квартира, отправила ее проверять наличие некоего бессмысленного, но памятного мне куба под потолком. Я позвонила Леське, но у него никто не отвечал.
По второй линии пробивалась риэлторша — куб был найден!
Призма и куб
Я во всем подготовилась. Сходила на Байковое кладбище, где в сторожке назвала номер бабушкиной могилы. Мордатый дядька неожиданно тепло и как-то по-домашнему сказал, что проблем не будет; подзахоронить к ней под бочок место найдется.
Пока я спускалась вниз по крутой улице мимо кладбищенских нищих и старух с первыми подснежниками, я все пробовала на язык это слово: "подзахоронить", — и все получалось не очень уж и страшно, а так — по-житейски, по-деловому — "matter of business".
— Из точки А в точку Б вышел поезд… То есть поезд — это я. Когда вернусь я в начальный пункт? — спрашивала я себя и отвечала: Когда вернусь, тогда вернусь, а пока что место возле бабушки мне обеспечено…
Уже неделю жила я в квартире, где родилась. У Леськи телефон по-прежнему не отвечал, но однажды трубку взяла тетя Зоя и неожиданно сухо сказала:
— А где ты раньше была? Мы тут без тебя уже всю жизнь прожили!
На заднем плане слышался голос моего дружка. Похоже, что больше его не интересовала ни я, ни детство, ни наше близнячество-землячество. Он вырос — и был прав!
Я чувствовала себя сорокой-воровкой, задумавшей украсть, отвоевать себе место в их прожитой без меня жизни.
"Свято место пусто не бывает", — как говорила нянька, и мое законное место давно и бесследно исчезло. Я осталась одна — зазевавшееся дите на перекрестке ветров, времени и пространств. Не объяснять же всем, что прошла я длинный путь, насытилась жизненными впечатлениями, подсчитала потери… Круг замкнулся, сюжет закольцевался, я вернулась назад, готовая снова войти в ту же реку, притормозить время, оживить минувшее и, наконец, окончательно договориться с судьбой на правах выжившей из ума дамы.
Мне стало невыносимо грустно. Все не имело смысла. Дальше был только повтор и тиражирование, а рутина была не для меня.
Я улеглась на бугристый диван, оставленный предыдущими хозяевами, и решила больше не вставать — объявить, так сказать, голодовку в знак протеста против настоящего и будущего, в защиту минувшего! Я часами разглядывала белый куб под потолком, временами проваливаясь, но потом снова выплывая, и куб был на месте. Этот небольшой кубический отросток, вероятно, закрывающий часть каких-то коммуникаций, в детстве был предметом моей гордости. На весь многоэтажный дом только у нас в квартире был такой незаурядный предмет, который я отчетливо помнила в связи со смертью Сталина.