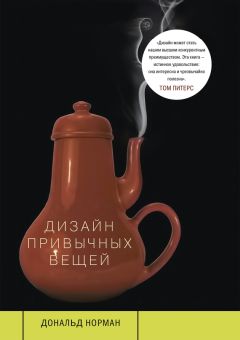Катя Ланге-Мюллер - Животная любовь
Возможно, от меня исходил незнакомый запах или змея просто заскучала и ей захотелось что-то предпринять — кто его знает. Известно одно: змея поползла вверх. Напрягая всю силу своих мышц, из которых она, собственно, и состояла, анаконда поднимала свое гибкое, стройное тело, отделяя его от моего, и, вопреки законам всемирного тяготения, устремлялась ввысь, пока ее тело не встало вертикально, балансируя на двух выпирающих позвонках у меня на затылке.
Честное слово, на мгновение я поверила, что это пресмыкающееся, которое согласно своей принадлежности к рептилиям должно ползать, обладает такой силой, что может на доли секунды, а возможно, и на несколько минут полностью преодолеть гравитацию и воспарить над землей, словно йог в автогипнотическом трансе, и подняться еще выше, до круглых шаровидных ламп на потолке этого зала-кала, пролететь сквозь потолок, мимо облаков, мимо Солнца, мимо Луны, прочь из атмосферы, пока не доберется до того пространства, где никакой силы тяжести нет, и будет блуждать по Вселенной в виде созвездия Змеи — знака зодиака, видимого только людям, во Вселенной рожденным.
Голос Бизальцки опустил нас с этих звездных небес на землю.
«Все, достаточно, достаточно», — прокричал он своим обычным пронзительным, стеклянно-стаканным голосом. Едва успело это «достаточно» дойти до моих сопротивляющихся внешним шумам барабанных перепонок, как Бизальцки с вороватой ловкостью протянул свои цепкие пальцы к анаконде, за несколько мгновений до того, когда она, казалось, должна была оторваться от моего тела, и тогда псевдоакробатические прыжки Бизальцки позволили бы ему ухватить лишь ее узкую длинную тень.
Мне стало грустно, хотя я испытывала и облегчение. Конечно, Бизальцки меня освободил, но слишком рано и вовсе не от того, от чего надо было. Опустив глаза, не слыша обращенных ко мне одной восхищенных возгласов, не слыша ликующего свиста, я брела, совершенно оглушенная падением из межзвездного пространства назад на землю, неся в душе оттиск змеиных чешуек, назад к своему месту в середине третьего ряда, мимо пятнадцати или двадцати школьников, которые поочередно вскакивали, стараясь не мешать мне, пока я шла мимо них.
Каланча из седьмого «Б» обняла меня за шею — наверное, чтобы дать мне понять, что и она тоже считает, что я совершила геройский поступок; может быть, она чувствовала, как сильно мне не хватает чего-то такого, что было у меня там, на сцене. Рука каланчи мягкой тяжестью повисла, касаясь моей груди; мне хотелось сидеть вот так долго и не двигаться, и я подумала — наверное, от голода, который снова дал о себе знать, — что от «фальшивой змеи» примерно столько же удовольствия, как и от «фальшивого зайца»[1] или от «холодной собаки».[2]
Бизальцки придерживал пальцами правой руки кончик хвоста анаконды, которая сворачивалась кольцами, и, преодолевая сопротивление змеи, запихивал ее обратно во мрак большой бельевой корзины. «Вот так, — сказал Бизальцки, завершающим жестом окончательно закрывая крышку корзины. — Конец представлению, всё, больше ничего не будет. А сейчас будьте так добры, достойно, без шума очистите, пожалуйста, территорию. Всего доброго, до новых встреч».
«Какую территорию?» — подумала я, и потом: «Когда же будут эти новые встречи?» Но тут уже послышалось шарканье множества ног, заскрипели стулья, раздались стоны и возгласы, их становилось все больше и больше; выпущенная на волю публика встрепенулась. Каланча из седьмого «Б» освободила меня из своих объятий, но тут же схватила за руку, которая безвольно болталась, свесившись с подлокотника, и потянула меня за собой, как тащит усталый дошкольник свою новую большую мягкую игрушку.
Хотя мы с нею выходили из зала медленно и были, кажется, последними, мы все-таки уже почти успели добраться до распахнутой двери в коридор, когда кто-то сзади легонько хлопнул меня по спине между лопаток. Уже готовая наорать на обидчика, я резко обернулась. Передо мной снова стоял Бизальцки. «Иди-ка, голубушка, одна», — сурово сказал он каланче из седьмого «Б», и та меня мигом отпустила.
Бизальцки отступил на шаг и стал разглядывать меня с ног до головы, как делала иногда моя бабушка, говоря, что я расту «быстро, как тот толстый тополь во дворе». Но Бизальцки заговорил совсем о другом: «Ну и как впечатление?» «От чего?» — спросила я. «От чего, от чего, — передразнил он, — от анаконды, конечно!» Я не могла понять, почему Бизальцки по поводу моей встречи с анакондой так уверенно говорит «конечно», но, чтобы ему не показалось, что я смущена или вообще тупая, я довольно быстро нашлась и ответила: «Прекрасное впечатление!» «Вот как, прекрасное? Ну и прекрасно, — немного иронично заявил в ответ Бизальцки и спросил: — А по биологии у тебя что?» «Пять», — потупившись, скромно ответила я. «Значит, ты любишь животных?» — сделал вывод Бизальцки, словно ботаники, явно лучшей половины всей этой науки, и вовсе не существовало. Но я тем не менее ответила: «Да, — и потом, до сих пор не могу понять почему, добавила: — Например, люблю мух, крыс, гусениц-златогузок». Тут даже Бизальцки не мог скрыть своего удивления. «Ну, в общем-то, да, понимаю, — наконец сказал он. — Но эта гусеница-златогузка — наказание одно, у нее бабочки такие некрасивые, никчемное, абсолютно никчемное существо, для коллекции это пустое место». «А я никогда златогузниц и не видела, всегда только гусениц», — сказала я. «Нет, девочка моя, — назидательно произнес Бизальцки, — она называется не златогузница, такое окончание годится только для дневных бабочек: капустница, траурница, крапивница. А из кокона гусеницы-златогузки выходит маленький ночной мотылек-коконопряд, гузка у него такая коричневатая, живет он совсем недолго. А вообще я эту бабочку-златогузку никогда еще живьем не видел. Ну ладно, ты лучше вот что мне скажи: если вся эта нечисть — мухи, крысы, даже гусеницы — греет тебе сердце, если анаконда не вызывает у тебя отвращения, а биология наверняка твой любимый предмет, тогда, может быть, ты захочешь отправиться вместе со мной в экспедицию, весной, когда зацветут деревья? Ты сможешь охотиться вместе со мной на мелких зверьков, ловить бабочек, собирать жуков и прочих насекомых, подкарауливать ужей, проводить время на берегах ручьев, среди нагретых солнцем камней в поле. Скажи мне, как тебя зовут, и я дам тебе знать, когда пора будет отправляться в путь».
«Хорошо, договорились», — пробормотала я и, не поднимая глаз и не говоря больше ни слова, бросилась к выходу. Я чувствовала, что щеки у меня горят огнем, в ушах шумит и от этого кружится голова. Чего хотел от меня этот дядька? Утащить меня, бросить прямо в логово природы, ко всем этим травяным клопам, кротам, мокрицам, — почему уж тогда сразу не к ядовитым грибам? Он раскинет над тобой гигантский сачок для ловли бабочек, запрет тебя в банку для препаратов, усыпит хлороформом, расправит как следует, и потом начнется: распялит, зафиксирует, проткнет булавками, пригвоздит к месту, приклеит к холодному дну глубокой, гигантской коробки.
Все это и еще более страшные картины — причем я уже знала, что это примерно означает, — проносились у меня в голове, пока я шла по коридору, спускалась по лестнице, пересекала школьный двор. Я прошла через арку ворот, повернула направо и пристроилась к хвосту очереди: люди ждали конца перерыва в булочной.
За полцены я купила три «американки»[3] вчерашней выпечки, две съела по дороге, а третью доедала, сидя на скамейке в парке под каштаном и пытаясь всё забыть.
В последующие месяцы я практически не вспоминала о Бизальцки и о его странном предложении, и только амазонская анаконда то и дело бередила мои чувства — нет, скорее наоборот: мои чувства, они одни, напоминали мне о ней. И тогда, утром ли, когда я только что встала, или если я просто так где-нибудь сидела и скучала, у меня появлялось ощущение, будто змея, подобрав свой впалый живот, снова стоит на моих шейных позвонках, сворачиваясь в широкий обруч, а я помогаю ей удерживать равновесие, едва заметно покачиваясь — туда-сюда, туда-сюда… Я знала: стоит мне схватить себя за затылок, и эти галлюцинации прекратятся. Но я не протягивала руки к затылку, пока мне не становилось совсем больно или пока бабушка не хватала меня за плечо, тряся и приговаривая: «Ну ты же все-таки не цирковой тюлень!»
Однажды в начале мая следующего года, а мне между тем уже исполнилось четырнадцать, секретарша нашего директора вызвала меня с урока немецкого. Я не имела ни малейшего понятия, зачем меня вызвали; за все то время, пока я поднималась наверх, в апартаменты директора, мне так ничего в голову и не пришло. Не говоря ни слова, но с властным видом секретарша бежала впереди меня, и я уже начала задавать себе вопрос: не собирается ли директор устроить мне персональный допрос, и если да, то по какой причине, но я не могла припомнить ни одного своего проступка, который был бы настолько серьезен, чтобы оправдать эти чрезвычайные меры. Секретарша протащила меня через распахнутую дверь к массивному письменному столу и поставила прямо перед ним. Что находилось на столе, мне было не видно, все заслоняло какое-то растение с мелкими листочками, побеги которого, видимо, уже в течение многих лет беспрепятственно оплетали переднюю часть письменного стола и его правую ножку.