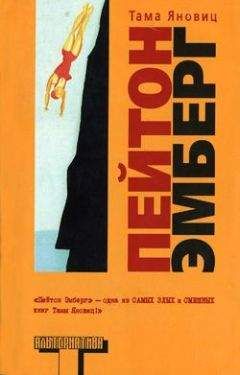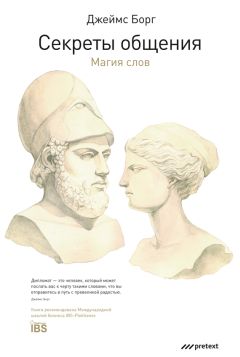Тама Яновиц - На прибрежье Гитчи-Гюми
Леопольд развернул коробку.
– Столовые ножи! – объявил он.
– С пластмассовыми ручками, – хмыкнул Теодор.
– Зато бесплатно, – сказала мамочка.
– Бесплатно? – переспросил Теодор. – А полторы тысячи?
– Ты меня идиоткой считаешь, да? – спросила мамочка.
– Он изуродовал твой матрас, – сказал Теодор, – мы сидим без гроша, а ты ввязалась в эту историю с пылесосом.
– Мне стало его жалко, – сказала мамочка.
Глаза у нее заблестели так, что я сразу поняла – сейчас заплачет. То ли от жалости к Стиву Хартли, то ли от Теодорова хамства.
– Как ты думаешь, сколько ему лет? – спросила вдруг Мариэтта.
– Сорок, – сказала я и взяла мамочку за руку. Она у нее сухонькая и жесткая, как клешня.
– Почему сорок? – сказала мамочка. – Двадцать восемь.
– Двадцать восемь? – переспросила я. – Не верю. Откуда ты знаешь?
– Он сам сказал, – ответила мамочка, высвободила руку и потрепала меня по плечу. – Этим он занимается только по выходным. У него свой бизнес. Он делает с компьютерами что-то такое, о чем еще никто не знает.
– Видать, это никому и не нужно, иначе бы не торговал пылесосами, – фыркнул Теодор.
– Когда-нибудь он будет очень богатым, – сказала мамочка и многозначительно взглянула на Мариэтту.
– По-моему, он заинтересовался мной, – сказала я.
– Это мы еще посмотрим, – пообещала Мариэтта, до отказа накрутив на палец белокурую прядь.
– Правда, он на редкость волосат, – сказала я.
– Может, ты будешь его брить, а, Мариэтта? – предложил Теодор.
– Есть еще электроэпиляция, – сказала я.
– На тыльной стороне ладони? – Теодор посмотрел на свои совершенно безволосые руки. – Лучше воском.
– Девочки, вы же любите животных, – сказала мамочка, отковыривая приставшую к противню корочку. – Представьте себе, что это шимпанзе.
– Шимпанзенок! Шимпанзенок! – заголосил Леопольд, прыгая по кушетке.
Из красно-белых клетчатых подушек вылетело облако – наверное, мертвых клеток.
– Надо было попросить его пропылесосить и кушетку, – сказала Мариэтта.
– Он еще вернется, – сказала мамочка.
– Откуда ты знаешь? – спросила я. – Кажется, мы его напугали. Сделку он заключил, а доставку поручит кому-нибудь еще.
– Никакой доставки не будет! – сказал Теодор злобно.
– Он такой одинокий, – сказала мамочка.
Она встала и начала бесцельно бродить по комнате, машинально передвигая с места на место расставленные повсюду бумажные стаканы.
– Ага. A легкую добычу сразу чует, – сказал Теодор. – Я бы отменил заказ, только он тут же прискачет и снова тебя охмурит.
– Дети, жизнь начинает налаживаться, – вдохновенно сообщила мамочка, пропустив мимо ушей реплику Теодора. – Вижу, вижу, ждут нас большие перемены. Удача не за горами! Леопольд, куда я задевала свой восхитительный джин-тоник?
3
– Почему это мама решила, что нас ждет удача? – спросил утром Теодор.
– Кто его знает, – ответила я. – У нее ведь незаурядные экстрасенсорные способности.
Было десять утра, и мы потихоньку просыпались. Мамочка еще не вставала. Она спит подолгу. Иногда вообще не встает. Тогда мы приносим ей в спальню солодовое молоко, леденцы и засахаренный миндаль «Джордан». Она обсасывает сахарную корочку, а сами орехи не ест, чтобы было не так калорийно.
– Может, это потому, что мы получили в подарок набор столовых ножей? – предположил Леопольд. – Это же хороший знак. – Пирс закурил. – До чего вонючие у тебя сигареты, Пирс, – сказал Леопольд. – И как ты можешь курить в такую рань?
– Извини, – отозвался Пирс, но сигарету не потушил.
Леопольд открыл дверь. Вошли Лулу с Трейфом и принялись обнюхивать пол в надежде найти что-нибудь съестное. День для этого времени года выдался на редкость теплый. Пепельница, которую никто не удосужился опорожнить, была забита окурками.
– Ты когда лег, Пирс? – спросила я.
– Я кино смотрел, – ответил Пирс.
В столовую, протирая глаза, вошла Мариэтта. Видно, она перед сном не смыла тушь – вокруг глаз у нее были черные разводы. Грудь ее просвечивала сквозь розовую нейлоновую ночнушку, застиранную до того, что местами ткань походила на рыболовную сеть.
– Доброе утро, – сказала я. – Кофе будешь?
– Оставь, пожалуйста, этот светский тон, – ответила Мариэтта.
– Прошу прощения, – фыркнула я.
– Кино было странное, – сообщила она.
– Ты тоже его смотрела? – поинтересовалась я.
Она не ответила, но волна презрения, вызванного моим идиотским вопросом, разлилась по всей комнате. Кофейник стоял на столе. Она взяла мою любимую кружку – белую керамическую, с немецким пастухом с одной стороны и сведениями о разных породах коров с другой.
– А свежего молока не осталось? – спросила она, беря со стола банку сгущенки с двумя дырочками в крышке.
Никто не ответил. Я попыталась послать в ее сторону ответную волну презрения. Она добавила молока в кружку с кофе.
– Что был за фильм. Пирс? – спросила я.
– Ну, типа крутой, – ответил Пирс, почесав шею. – Там был один парень, слуга. Или вроде того.
– И что?
– Он жил в большом таком доме, а хозяева уехали. Ну, и там случилось убийство. Короче, он нашел труп. Кто убил, я не понял. Типа того, страшно.
– Пирс, это же была комедия, – сказала Мариэтта. – Романтическая комедия.
– Да ну? – удивился Пирс. – Круто.
– Пирс, ты прелесть! – сказала я.
– Отвяжись, Мод. – Пирс потушил сигарету.
В комнату вошла мамочка в ярко-синем шелковом платье с перьевой отделкой, кое-где полысевшей. Она нацепила на нос резиновый поросячий пятачок и солнечные очки вверх тормашками.
– Очень смешно, – сказал Теодор с тоской и отодвинул от себя тарелку с хлопьями. – Когда-нибудь ели «Райс криспиз» с концентрированным молоком? Бр-рр…
Мариэтта взяла со стола банку и прочитала этикетку.
– Это сгущенное.
Мамочка сняла очки и пятачок.
– Давайте-ка обсудим наши планы, – сообщила она. – Я тут думала-думала и кое-что придумала.
– И что же? – спросила Мариэтта.
– Сейчас узнаете, – ответила мамочка. – Кофейку налейте.
Леопольд придвинул стул к стене, где висели кружки.
– Мам, тебе с воздушными шариками? – спросил он. – Или с древесной лягушкой?
– На твое усмотрение, пирожок мой яблочный, – ответила она и уселась за стол. Трейф с Лулу тут же сунулись ей в колени. – Лулу, радость моя, – погладила ее мамочка. – Где твои щеночки? Вот они подрастут, мы их продадим и бешено разбогатеем.
– Это и есть твой план, мама? – спросил Теодор. – А то у меня есть для тебя новости. Никто в округе голых собак покупать не собирается.
– Какой же ты пессимист, – вздохнула мамочка. Леопольд налил ей кофе в кружку с древесной лягушкой и собрался добавить сгущенки, но она помотала головой. – Я пью черный, – напомнила она. – Разве что с капелькой чего-нибудь крепкого.
– Есть только джин, мамочка, – сказал Теодор. – Джин и пиво. Полечить бы тебя от алкоголизма, только, боюсь, пошлют они меня куда подальше и скажут, что без твоего согласия ничего поделать нельзя.
– Тогда, может, есть хоть какие-нибудь булочки к кофе? Рогалики? Пирожные?
– Хочешь, я что-нибудь испеку? – предложил Леопольд.
– Это слишком долго. Посмотри в холодильнике. В дверце.
Леопольд удалился на кухню и вернулся с пластиковым пакетом.
– Ты про это? – спросил он. – Там одни крошки.
– Обожаю крошки, – ответила мамочка. – Это сдобные крошки, они остались от кекса. Давай сюда. Мне обязательно нужно хоть что-нибудь к кофе.
– Так что у тебя за план, мам? – сказал Теодор.
– Подожди, не рассказывай, – сказала я. – Я на минутку. Схожу за щенками.
Я встала. И тут раздался стук в дверь. Вошел мужчина. Это был Эдвард. От него несло спиртным, а на ногах у него были роскошные красно-черные ковбойские сапоги, которых я раньше никогда не видела, – с орлами по бокам.
– Эдвард! – воскликнула мамочка и, вскочив из-за стола, кинулась к нему. – Свет очей моих! Отец моего младшего сына! Где ты пропадал?
– Мамусечка! – загоготал он. – Кобылка моя необъезженная! Как я по тебе соскучился!
Он заключил ее в объятия, и они принялись целоваться, уткнувшись друг в друга, как парочка исландских пони – Эдвард являл собой необузданного жеребца, обезумевшего от страсти к нашей мамочке, она же кокетливо гарцевала, посверкивая карими, по-лошадиному влажными глазами. Не менее минуты мы все наблюдали их ласки. Наконец мамочка с тихим ржанием отпрянула назад.
– Как же от тебя воняет! – сказала она.
– Ну, извини.
– А где твой мотоцикл? – спросил Теодор.
– Я его разбил, – ответил он. – В миле отсюда, у дома Колманов. Оттуда вышел какой-то тип и мне помог. Я уж испугался, что руки-ноги переломал. Он дал мне выпить.
Теперь, когда он наконец отлепился от мамочки, я разглядела, что лицо у него красное и помятое, вероятно, вследствие падения, а соломенная грива до плеч спуталась и висела клочьями.