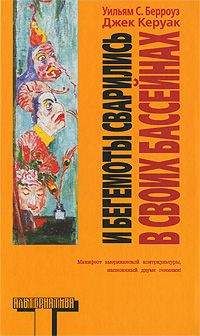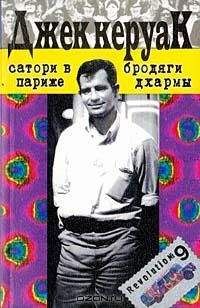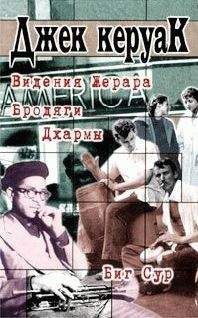Николай Студеникин - Перед уходом
«Веркина муть» — это вермут. И название местное, и винцо поблизости где-то разливали. Им бы заборы в палисадниках красить, а не людей травить! Мужик залебезил:
— Тонечка, да я ж ничего! Вы разговаривайте себе, разговаривайте, разве ж я мешаю?
— Вот и не мешай, — по-царски строго отрезала продавщица. — Глаза еще зальешь — успеешь!
Мужичок угодливо хихикнул, и за Наташиной спиной снова уныло забренчали медяки. Будто от повторного пересчета их больше станет! И пришлось сделать усилие, чтобы не повернуться и не поглядеть, кто ж там такой, вдруг — знакомый? И, чувствуя неловкость от присутствия свидетеля, Наташа сказала:
— Ну, пойду я. Мама ждет. Спасибо, Тонечка! Капитанскую Дочку не встречаешь, Марью Гавриловну? Повидать бы ее! Как она — жива, нет?
— Жи-ива! Что ей сделается? Скрипит потихонечку. Сегодня утром была — хлеба взяла, макарон, джем сливовый, глаза б мои на него не глядели, консервы рыбные в томате — три банки. Каких-то гостей кормить. Замечание сделала, что сливочного масла нету, один комбижир и подсолнечное. А мне что ж — из себя его сбивать, что ли? — порохом вспыхнула продавщица. — Не я лимиты спускаю. Что завезли, тем и торгую, под прилавком не держу! Учителя эти, педагоги… Жизни не понимают, а все туда же — взрослых людей учить! И что за зуд такой? Мне одна, бухгалтер из райпотребсоюза нашего, умная женщина, так и говорит: ежели, не приведи господь, под суд попадешь, а в заседателях, сбоку от судьи, учительша какая-нибудь сидит, все: суши сухари — дадут полную катушку, без снисхожденья… — И, столь же неожиданно угаснув, спросила тихо: — Витя-то приедет?
— Порох! — тем временем льстиво и одобрительно хмыкнули за Наташиной спиной.
«Ах, подхалим!..» — подумала Наташа без приязни.
— Не знаю. Должен… вроде бы. Мать говорит — обещал!
— Этого дела не хватит если — пускай зайдет. Для него найдется! Дома не будет, значит — на танцах я. Все ж тянет глянуть. Может, студенты явятся: опять работать приехали, сорок человек. И ты приходи, Наташ, — оркестр все-таки, не под гармошку! — Заметила чужие модные туфли, спросила с завистью: — Платформы, а? Сколько платила?
Наташа, снова порозовев, ответила:
— Пятьдесят.
Незнакомый мужичок, занявший ее место у прилавка, уже заныл униженно, заканючил:
— Всего двугривенного, Тонь, не хватает! Запиши в тетрадь. После сенокоса, ей-богу, все отдам. Агафьин за сено обещал наличными рассчитаться…
И обратный путь из магазина был долог. Наташу останавливали, расспрашивали, улыбались. Из вежливости и она задавала вопросы. Ей отвечали — запутанно и пространно. Приходилось поддакивать и слушать. А как же иначе? Обидеться могут люди. У переулка, который вел к дому, где жила учительница Марья Гавриловна, Наташа замедлила шаг. «Зайти сейчас, не откладывая? — нерешительно подумала она. — Нет, с водкой неудобно… осудит еще… Потом, потом…»
Деревянное коромысло, два зеленых, в светлую крапинку, эмалированных ведра — из своей калитки, направляясь к колодцу, вышла мамина подруга тетя Нюся. Давняя и странная то была дружба! И сколько Наташа помнила себя, Нюся с мамой то ссорились, то мирились, то опять ссорились — шумно, с бранью, с криками на все село. Наташа не знала, каковы отношения подруг сейчас, но на всякий случай сказала:
— Здравствуй, тетя Нюся. Как здоровье твое?
В ответ загремели пустые ведра.
— Здоровье мое, деточка, неважное! А ты, значит, мамочке своей помочь приехала, облегчить? — Сквозь умиление и елей в голосе тети Нюси явственно пробились злорадные, колючие нотки. — Молодец, деточка, молодец! А уж как мамочка твоя убивалася — волосы на себе рвала. Горюшко-то какое! А все он — Федька, Халабруй чертов…
Наташа насторожилась. Халабруем звали по-уличному дядю Федю, теперешнего маминого мужа, а Наташиного, стало быть, отчима, уехавшего сегодня рано поутру в город продавать картошку. Нет в селе человека без прозвища.
Оставшись года четыре назад вдовцом, бездетный и работящий Халабруй внезапно попал в середину бабьих интриг, в самый омут. За ним охотились, его обкладывали, как медведя в глухом бору, и он не выдержал натиска — решил жениться, даже заявил об этом вслух, на людях в магазине. Многие слышали — разнесли. И дружный доселе отряд вдов раскололся. Все ждали, на ком он остановит свой выбор, престарелый жених: вдов и вековух в селе было много, куда как больше, чем холостых и вдовцов. Но хитрый Халабруй не спешил. Он благоденствовал, пользуясь передышкой и расколом, и вдовы поняли, что победит та, которая, отбросив стыд сделает решительный шаг первой.
О, Наташа хорошо помнит, как мать в те дни шушукалась с тетей Нюсей. Вот заговорщицы! На них было забавно смотреть. Но Наташа тогда сидела, обложась книгами, читала предисловие к роману «Молодая гвардия» — готовилась к выпускному экзамену по литературе, и было ей не до смешных вдовьих интриг. А помолодевшая за последние дни мать, принаряженная, с лихорадочным румянцем на щеках, после таинственного разговора с тетей Нюсей растопила печь, сбегала в магазин и еще куда-то, поменяла занавески на окнах, дерюжки на полу и постельное белье и, сунув Наташе — небывалое дело! — три рубля, сказала ей, глядя в сторону: «Заучилась совсем! Погуляла бы ты, что ль? В район бы съездила…» У Наташи хватило ума не перечить ей в этот день. Она отложила книгу и ушла из дому. Все равно перед экзаменами ничего не лезло в голову — какая-то каша!
Вернулась домой Наташа поздно, до копейки растранжирив трояк, и несказанно удивилась, обнаружив, что в окошках нет света, а дверь заперта. Никогда еще такого не бывало! Она постучала — сердито и громко: чувствовала себя вправе. Через некоторое время в дверь выглянула мать, дохнула дочери вином в лицо и зашептала, сжимая у горла измятую ночную рубаху: «Ты в сенцах поспи — тепло! Я там тебе подушку положила. И не шуми ты так, ради Христа!» Что-то такое поняв и с ходу осудив мать, Наташа холодно процедила: «Ладно».
Потом она, голодная и обиженная, лежала на старом папином столярном верстаке, под дырявой крышей, на случайных пыльноватых тряпках, без сна. Деревянный верстак скрипел-поскрипывал, словно корабль на волне, и сам казался ей дивной сказочною ладьею. Свернувшись калачиком под коротким старым пальто, Наташа — так казалось ей тогда — перечувствовала все то, что, может быть, предстояло испытать ей в будущей жизни, раскрывающейся, словно бутон в росе. И в том, что жизнь эта будет необычна и прекрасна, что она станет непрерывной цепью радостей и удач — цепью, которая ни в одном месте не разомкнется, не было у нее тогда никаких сомнений. Наташино незрелое сердце было полно девичьего высокомерия, родная мать казалась ей маленькой и смешной, и — под тихие скрипы безработного, рассыхающегося дерева — Наташа заносчиво улыбалась темноте.
Скандал разразился на следующий день, после обеда. Нюся явилась под самые окна, сжимая в побелевших пальцах закопченный обломок кирпича — у кого-то как раз в те дни перекладывали печку. Ох, чего только она не кричала, в каких только грехах не винила свою удачливую соперницу — маму! И как язык поворачивался, не отсох?.. Наташа сгорала со стыда. Она была готова убить орущую тетку. А народ посмеивался, собравшись поодаль в кучки. И даже полуденная жара не смогла разогнать их. «Спектакль!» — восторженно заржал кто-то. «Надо Халабрую пол-литра становить, — ответили ему. — Заслужил! Он — главная причина!»
Тишину и благообразие восстановил на улице новый поп, отец Николай. Он в то время шел, а верней — шествовал, мирно беседуя с парнем в зеленой вылинявшей форме студенческих строительных отрядов. Забавная, несуразная то была пара! Парня знали: он работал в селе и прошлым летом, и позапрошлым, был у студентов за начальника.
Отец Николай говорил ему, звучно играя голосом: «Отчасти лично я согласен с покойным митрополитом Александром. Введенский, знаете? Он много спорил с Луначарским, диспуты были публичные, посему в миру более других иерархов и известен. О нем многое писалось в светских книгах. Но, повторяю, только отчасти! Второбрачие среди духовных лиц, к примеру, есть акт не только не полезный, но весьма вредный и опасный. А сотрудничество нам необходимо. Пусть неравноплечие, но весы. Припомните войну — годину бед народных! Хотя вы, по возрасту вашему… Пока есть паства, быть и пастырю. Любовь к человеку, иначе сказать, к ближнему своему — вот точка схода. Любви учить! «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». — Дословно, по памяти, процитировав самого неистового из апостолов, Павла, чего, впрочем, никто из слышавших его не оценил, даже и не заметил, священник проговорил, оборотясь к своему молодому собеседнику и сардонически сломав бровь: — Мы — традиция тысячелетняя, корни, со времен святого равноапостольного Владимира на Руси; вы — новь! Новаторы, так? Вы согласны? Но можно ли новому без старого обойтись — без трамплина? — Бровь вернулась на место. — Как сие на взгляд диалектика?»