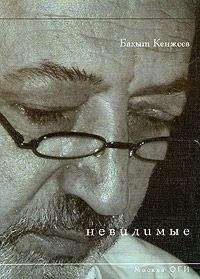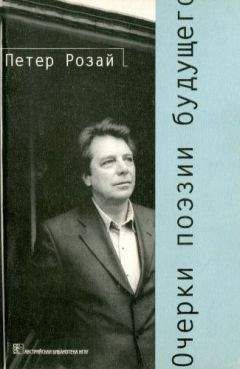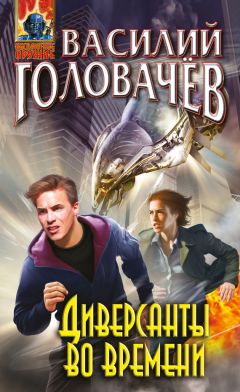Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 5 2007)
Внешне он напомнил мне сразу двух близких мне людей: повадкой — уже упомянутого брата Олега, а чернявостью и глазастостью — моего самого первого друга образца 1944 года Валерия Григорьянца, тоже, можно сказать, брата. Это сходство и ласковость все время были рядом и тогда, когда мы оказались за фуршетом. Мне хотелось, конечно, посидеть и с Грассом (как-никак старые приятели), мои друзья пробовали оттеснить “переводчика”, но это им не удалось, да я уже и выпил с ним и был заинтригован.
И одет он был импозантно, на грани вычурности: идеальная выбритость, как бы смокинг, как бы гвоздика в петлице (была или не была?) и бабочка (точно была!); блестящий антрацитовый взгляд и выразительные морщины исключали подозрение в потертости. Присмотревшись, узрел я в нем и нечто маскарадное, венецианское.
Он мне тем временем поведал, что мы уже встречались с ним в Западном Берлине, неужели я не помню? “Нет, в те годы я был невыездной, скорее с братом, пока он „бегал” ”. Нет, именно со мной, настаивал он. Забавно, что при этом он сам начинал все более походить на моего брата, такого соскучившегося по моей братской любви и доверительному разговору. Мы теплели. Он легко поддавался на мои вопросы, охотно отвечал, а я все менее получал информации. Не только об Олеге мне не удалось ничего выяснить, но и о нем самом, что напоминало мне, в свою очередь, мои попытки выяснить что-либо у самого Олега.
Только когда уже, после третьей, я сказал ему, что он похож на Григорьянца, он стал так страстно доказывать, что он не армянин, а на самом деле венгерский аристократ, что ему приходилось, естественно, долгие годы скрывать, пока родители погибали в лагерях... только тогда я что-то заподозрил, когда стал он своей лощеностью походить на третьего моего как бы брата, пусть и троюродного, свояка Виктора. У Виктора и в самом деле было что-то венгерское в облике. Назвался мой знакомец графом или бароном, не помню... но этим-то “бароном” он и совпал окончательно с Олегом.
Баронет фон Битофф с принадлежащим ему замком в Чехословакии (о замке Bitov имел я неосторожность сам поведать Олегу как о курьезе)... Три образа сложились, как рюмки, — напротив меня сидел Олег!
Фуршет, однако, сворачивался, и моим друзьям и читателям удалось наконец-то меня оторвать от “брата”, и мы добирали дальше по мастерским местных замечательных художников. С картиной и каталогами под мышкой продолжал я выспрашивать у друзей, кто это был сегодня со мной и как его зовут, — никто не знал ни кто, ни как, да и вообще впервые его видели. Как же так! У меня же завтра выступление у него на философском факультете! Они, впрочем, не были уверены, что у них есть философский факультет. Во всяком случае, никакой лекции у меня не будет, они бы точно знали.
В чем они были уверены, это в том, что мне надо ехать домой, в Калининград (машина уже ждала).
Утром я проснулся под действительно замечательной живописью казахского художника Калмыкова.
Разбудил меня владелец этих картин, хороший парень Слава Карпенко, приятель моих приятелей Домбровского и Казакова. Я сразу понял, где я. Я был адекватен: у Карпенко я и остановился, как прилетел.
— Тебе плохой звонок из Ленинграда, — сказал он. (Я не мог себе поверить, что уже знаю, в чем дело.) — Подойди, жена на проводе.
— Умер Олег,— сказала Наталья.
— Когда?
— Вчера, в час дня.
Тогда я не зарыдал. Рыдаю сейчас. “Плачу и рыдаю”, как Юра Казаков.
Вчера в час дня чиновник вычеркивал в протоколе имя Олег.
Перед глазами вставал образ моего вчерашнего собутыльника: тело как черное облако, будто во фраке со скрытыми под ним непомерными мушиными крыльями. Нет, не сразу углядел я нечто угрожающе-жужжащее в этом инобытиянине . Ангел смерти или стололаз экстра-класса? Но — факт: не только никто не знал его прежде, но и на фуршете никто не запомнил. Не видел .
Когда-то давно, в шестидесятые, после редкого наезда брата в Питер, хотел я написать рассказ под музыку Баха “Каприччо на отъезд любимого брата”.
Привиделся мне рассказ с эпиграфом “Незапный мрак. Иль что-нибудь такое...”.
Там у меня наверняка было бы и вот про что.
Среди немногих отцовских книг была у нас и трехтомная “История искусств” Гнедича (два почти новеньких тома, один засаленный и растрепанный). Брат был способный мальчик, рано научился буквам и рано стал пробовать читать и писать. Родители поощряли его в этом, не ругали, если он писал и рисовал на чем попало, и даже за то, что он писал или рисовал. Так была им создана серия семейных портретов, мало отличимых друг от друга, если бы не было подписано, кто кто. Он выпускал эти портреты день за днем, как газету (сказывалась будущая профессия): “Мама — плешь”, “Папа — плешь”, “Бабушка — плешь”, “Андрей — плешь” и т. д. Плешивым никто не был, потому и не обижался. Знал ли сам автор, что такое плешь? Мама, впрочем, всегда кокетливо заявляла, что “не любит плешивых”. “Плешь”, наверно, было самое ругательное слово, какое он знал. Смеялись. Обижались бы уже, если бы кого пропустил. Портреты вкладывались в Гнедича.
Приходит мама с работы (это еще до войны было, а мне как фамильный анекдот рассказывалось уже после Победы), а ее трудолюбивый Олегушка сидит с карандашом над Гнедичем и приговаривает: “Стук-грек! Стук-грек!” Что за “плешь” он в Гнедиче рисует? А там совершенно голая сисястая тетка, обвитая толстым змием, и под ней подписано: “Стук „Грех””. А наш Олегушка уже читает! — сообщила мама отцу. Что же он читает? Стук-грек, стук-грек, стук-грек...
У него раньше моего случился интерес к обнаженной натуре...
Не написал я того рассказа о брате, хотя он и задуман был гораздо ближе к немецкому экспрессионизму, представителем которого был Стук, и греха в рассказе должно было быть побольше, чем в раю. Но не написан этот рассказ был задолго до его таинственного исчезновения в Венеции в 1983 году.
Виктор погиб в автокатастрофе вместе с любимой женой в 2004 году, аккурат в День Победы.
Григорьянц, слава богу, только что вырулил из инфаркта с инсультом.
Наталья умерла ровно пять месяцев назад.
Знаю, что Томас Манн написал “Смерть в Венеции” (я то ли читал, то ли фильм смотрел)... В Венецию меня два раза мама не пустила (в город, где пропадают ). Надо бы мне “Марио с волшебником” все-таки прочесть: вдруг и это в Венеции? А — страшно.
26 февраля 2007, Лорен.
Евразийское
Кублановский Юрий Михайлович родился в Рыбинске в 1947 году. Выпускник искусствоведческого отделения истфака МГУ. Поэт, критик и публицист.
Пользуясь случаем, сердечно поздравляем Юрия Михайловича с 60-летием.
Элегия сада Монсо
Молоко тумана; листва в коррозии
и её ж на ветках ещё ошмётки.
С хладностойкими, очевидно, розами
деревцо, распятое на решётке.
Осень — это всегда анархия.
Двадцать лет тому, а кажись, что давеча
Бродский тут бубнил: “Не моя епархия,
извините, деятельность Исаича”.
Много меньше стало в Монсо под снегом
занимающихся спортивным бегом.
...Через год с копейками ход истории
на глазах убыстрился, словно в сказке,
а точней, какой-то фантасмагории,
к неизвестной только глупцам развязке.
Так что я спешу, твою руку трогая —
как ты их осенью согреваешь? —
досказать посбивчивей то немногое,
о чём ты ещё не знаешь.
В базилике Сен-Дени
Тронутые коррозией
листья последних дней.
Осень ещё не поздняя,
будет ещё поздней.
Раз навсегда таинственный
обруч нам сжал сердца:
каждый из нас — единственный
у своего Отца.
Мы не из касты правящих.
Я, например, в бегах,
будто безвестный прапорщик
в стоптанных сапогах.
Но моего служения,
чтобы о нём узнать,
камерами слежения
скрытыми не заснять.
…Всё-таки вавилонскую
жизнь мою искони
что-то роднит с Бретонскою