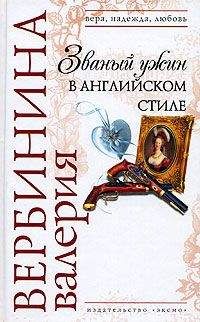Кристин Айхель - Поединок в пяти переменах блюд
– Друзья, а как же красота? – вскричал Себастьян. – И чувство? Статика, динамика – какая разница, нас вдохновляют лишь чувство и фантазия, вранье и вымысел! Только искусная ложь способна вызвать у нас приятное чувство головокружения, которым нас милостиво одаряет искусство в лучшие свои моменты.
Он поднял свой бокал:
– Все, точка! За искусство!
Нет, только не сейчас. Регина фон Крессвиц остановилась в парадном дома. Она вынула зеркальце и стала рассматривать мускул под левым глазом, который дергался в своевольном, непредсказуемом ритме. Эта пульсирующая точка издевательски сводила на нет все усилия предыдущих часов: дерзкое перо в зачесанных наверх и заколотых темных волосах, драматические баклажанного цвета тени, серебристую пудру на скулах. Иногда она мечтала о маске, которую можно было бы просто натянуть на лицо. Вторая кожа, превосходная, сияющая, розовая, с легкой припухлостью у глаз, с выражением веселой отстраненности или проникновенным дыханием сердечного пыла – в зависимости от обстоятельств.
Ей достаточно этих двух лиц.
Ну ладно, ее лицо бесится, а ей нужно идти. Пора.
«There's no bizzz like showbizzz»,[18] – промурлыкала она в зеркальце, закрыла крышку и позвонила в дверь.
Она сразу заполнила собой пространство, и не только благодаря своим объемным формам. Это было что-то вроде мошеннического трюка, уличить в котором нельзя, хотя и понимаешь, что что-то здесь не так. Загадочный феномен присутствия. Она начинала доминировать через несколько мгновений в любом помещении, в любой квартире, в любой галерее. Она была подобна веществу с высокой способностью к диффузии, веществу, которое с бешеной скоростью распространяется в пространстве и по истечении многих часов еще висит в воздухе тяжелым запахом духов. Что удивительно, всегда было трудно сказать, в каком именно наряде она была. Даже Штефани, которая неизменно обращала внимание на такие вещи, стоило больших усилий вспомнить, в чем она была, потому что Регина фон Крессвиц всегда носила диковинные одеяния, развевающиеся и блестящие, приковывавшие всеобщее внимание.
Она бурно обняла хозяев, а затем поприветствовала остальных гостей точно в соответствии с их положением на иерархической лестнице. Герман сразу же подался назад. На его лице отразилось страдание, а поцелуй в щеку, который запечатлела Регина фон Крессвиц, похоже, вызвал у него явное желание немедленно воспользоваться душем.
Регина, щедро укутанная в облако темных блестящих материй, без труда перешла на холодную интонацию непринужденного оживления, тот светский тон, которым она владела, как владеют местным диалектом.
– Long time no see, – мы не виделись ты-ся-чу лет, я все время хотела позвонить, но ведь ты знаешь, у меня сейчас этот дурацкий проект с Бобом в Лос-Анджелесе, затем был opening с Раушенбергом[19] в Париже, он был поразительно хорош, вы прекрасно выглядите, Герман, одним словом, audience[20] в старом добром Париже была благосклонна, аплодисменты и крики «браво», кстати, я там встретила одного молодого художника, – Герман скорчил гримасу, – вы просто обязаны с ним познакомиться, он делает очень занятные инсталляции, в общем, еще Петра говорила недавно, что она находит это жутко захватывающим, и сейчас я организую спонсоров для его каталога, synergeia,[21] я всегда говорю, synergie, да, спасибо, шампанское с удовольствием, спасибо, милочка, у вас здесь чудесно…
Теофил знал ее давно. Когда-то стоило этой женщине только войти в комнату, как воздух начинал гудеть. Сейчас все в ней было неживое, ненастоящее – деланная экзальтированность, заученность слов и жестов.
Все было так тягостно, что Теофил постарался уйти в тень. Слишком близко, слишком холодно, и его старый любимый твидовый пиджак ему слишком узок. Он вышел на кухню и, стараясь не спешить, полез в холодильник за новой бутылкой шампанского.
– Добрый вечер.
В кухню вошла Мария, домработница-португалка. Вот ее Теофил обнял бы с большим удовольствием. Она ему ближе, чем все эти люди в гостиной, с удивлением понял он. Роднее. И яснее. У них были вполне определенные отношения: она убирала и гладила белье, а он за это мог называть ее просто по имени.
Милая Мария. Ростом немного ниже его. Ее лицо с мягкой улыбкой не было накрашено, за исключением губ. Как малина и клубника, подумал Теофил. Диалог плодов.
Он радостно посмотрел на нее.
– Чудесно выглядите. – Ничего другого ему в голову не пришло.
А красота была, и в достаточном количестве. Ее хватало. Можешь не умничать, мы ведь уже женаты. Есть ли у Марии друг?
Она подошла и смахнула пылинку с его пиджака. Теофилу захотелось закрыть глаза и крикнуть: «Еще!»
Его тело сиротствовало. Неделями к нему не прикасался никто, за исключением сотрудников службы безопасности в аэропорту, ощупывавших его пищащими приборами. Он наслаждался этими привычными для них действиями, заранее расстегивал пиджак и поднимал руки. Деловитую грубоватость этого обыска он ценил особенно. Каждое прикосновение находило долгий отклик внутри его. Это были мимолетные мгновения близости, которые Теофил проживал счастливо, забывая об отвращении к своему перенасыщенному людьми и при этом одинокому существованию.
Такими были его тайные развлечения, о которых никто не подозревал.
– Вот, – сказала Мария. – Теперь можно идти.
Мария, Мария, Мария. Наверное, в «Марии» Ленни Бернстайн[22] имел в виду именно ее. У Кругов она работала всего два месяца.
«Она тоже часть моей жизни», – удовлетворенно подумал Теофил. Укрепившись духом, он вернулся в гостиную. Он вошел, неся бутылку и бокал для Регины. Прежде она казалась ему довольно симпатичной, и он, чуть волнуясь, искал под ложным блеском ее теперешнего облика следы былой красоты.
Она играла свою роль хорошо. Ну да. Но она не знала закона, который известен любому профессиональному актеру: короля сыграть нельзя, короля играет свита. Уважение и подобострастие других делают короля королем. Трагедия Регины состояла в том, что она была королевой без королевства, без двора и без подданных, в поведении которых могло бы отражаться ее величие.
С королевским достоинством она приняла бокал и покровительственно повернулась к Сибилле Идштайн.
– Скажите-ка, мы ведь с вами уже встречались, dio mio,[23] я позабыла где, не на открытии «Smart Art»? Да, да, теперь припоминаю. Как у вас дела?
Да, как же у меня дела? Как сажа бела, тушь потекла, сердце разбито, на чулке поползла петля. Все под контролем, хотелось ответить Сибилле, я справляюсь.
– Я точно не знаю, – произнесла она неуверенно.
Под левым глазом Регины билась жилка.
– Нас познакомили Хёхстмайеры, вы их тоже знаете, не правда ли, Теофил? – В поисках поддержки Регина посмотрела на хозяина дома. Не бросай меня, безмолвно взывала к нему она, скажи ей, что я знакома с людьми, которых вы тоже знаете, что поэтому она тоже должна хотеть со мной познакомиться.
Штефани поспешила вставить несколько слов:
– Хёхстмайер раньше был консультантом в «Улице Сезам», а сейчас он исповедует суфизм в Люнебургской пустоши.[24] Его жена долго жила в Индии, а затем набивала футболки для уличных шествий в Сан-Франциско.
– Ах, вот как.
Сибилла Идштайн провела рукой по серому костюму, сшитому на заказ. «Жиль Сандер»,[25] секонд-хэнд. Да, ей приходилось встречаться с такого рода людьми: искалеченные судьбы, разветвленные реки жизни. Да. И почему эти полные надежд жизненные русла заносит песком? Каким-то образом она умудрилась получить работу в театре, заведующей литературной и драматургической частью. Именно умудрилась. В детстве она думала, что задача завлита – вносить драматизм в скучные театральные пьесы. Позвольте, в том, что касается драм, я дока. И это не так уж неверно. Раньше она писала стихи, написанные «почти на краю безмолвия», как она часто говорила тогда с мукой в глазах. Теперь эти стихи превратились в тексты программок, которые забудут самое позднее за ужином после спектакля.
Она встречала Регину лишь мельком, и та ее так часто не замечала, что Сибилла решила отплатить ей той же монетой.
– А, да… Честное слово, я просто никак не могла вспомнить. Идштайн, Сибилла Идштайн. Вы не могли бы напомнить мне свое имя?
Регина не ответила, продемонстрировав ледяные осколки своей улыбки, и расстроенно направилась к Себастьяну, который с предупредительной любезностью поднялся с дивана.
– Мой милый Себастьян Тин! – воскликнула она.
– Госпожа фон Крессвиц!
Себастьян отчетливо произнес ее имя и торопливо склонился над жирной ручкой.
Сибилла удивленно посмотрела на него. Боже, какая честь для этой околобогемной шлюхи. Тоже мне, райская птица.
Себастьян был в восторге. Правда, объектом его восхищения была не столько Регина, сколько ее имя. Себастьян был образован, богат, его уважали как автора, его домогались как издателя, но пределом его мечтаний все равно оставалось место в пышной кроне благородного генеалогического древа. Этой мечтой он питал и приумножал терзания своего самосознания – изъяны, которые он никогда не сможет устранить низкое, как ему казалось, рождение, отсутствие генеалогии, в которую он погружался бы с таким же удовольствием как в старое кожаное кресло, соответственное положение в обществе, на которое уж с полным правом могли бы распространяться флюиды, которые он ежедневно с таким трудом вновь и вновь производил на свет, подбирая тонкие ткани я благородные краски, определенные сочетания цвета ботинок, сорочки и жилета, изысканные жесты и тончайшие движения мимики, которые он подглядел в тихих дворянских поместьях и сумрачных родовых замках и впитал в себя – всегда рядом с бледными до прозрачности юными дамами, носившими знатные титулы с такой естественностью, что его начинало трясти, когда они в обществе произносили свое имя. Сам он свое голое, без всяких тешащих самолюбие приставок имя выдавливал из себя с деланной независимостью, часто слишком громко, так что выходил лишь жалобный звук, долгий и болезненный «Тииииин», один-единственный позорный слог, который без заветного «фон», казалось, замерзал в пространстве. Хоть бы он был Тинхаузеном или Тинвицем, но его неосторожная мать отказалась от своей более или менее приличной девичьей фамилии Лаутерсбах, сменив ее на бесславную Тин.