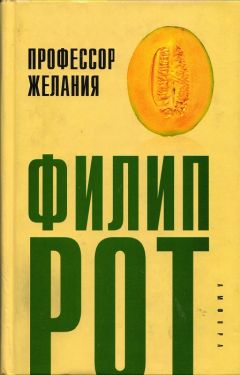Филип Рот - Профессор желания
У меня только один друг мужского пола, с кем я вижусь регулярно. Скромный студент, изучающий философию. Он и есть мой наставник по «Kierkegaard». Зовут его Луис Елинек. Луис, как и я, предпочитает снимать комнату в городе и частном доме, а не жить в общежитии со студентами, чьи понятия о товариществе он тоже находит достойными презрения. В период обучения в университете он подрабатывает продажей гамбургеров (лучше это, чем принимать деньги от родителей, которых он презирает). Он насквозь пропах этими гамбургерами. Стоит мне дотронуться до него, случайно или находясь во власти бурных эмоций, чисто по-товарищески, он отскакивает в сторону, словно боится запачкать свою вонючую одежду.
— Убери руки, — сердито ворчит он. — Ты что, Кепеш, спешишь в одно заведение?
Я спешу? Мне как-то не приходило это в голову. Интересно, и какое?
Странно, но все, что Луис говорит относительно меня, даже из желания задеть, кажется мне значительным в важном деле, как я говорю, «познания себя самого». Поскольку, как я вижу, он совершенно не стремится вызвать ничьих теплых чувств — ни семьи, ни преподавателей, ни хозяйки квартиры, ни лавочников и уж, конечно, меньше всего «этих буржуазных варваров», наших однокашников, — я считаю, что он более глубоко чувствует объективную реальность, чем я. Я отношусь к числу тех высоких, пышноволосых парней с раздвоенным подбородком, которые пользуются успехом в средней школе. А здесь у меня ничего не получается, сколько я ни пытаюсь. Особенно рядом с Луисом я чувствую себя до ничтожности банальным: таким аккуратненьким, чистеньким, обаятельным. Вопреки всем своим стремлениям, я не совсем безразличен к своему внешнему облику и репутации. Как бы я хотел быть похожим на Елинека, пропахшего жареным луком и поглядывающего на всех сверху вниз! Созерцать мусорное ведро там, где он живет! Хлебные корки и огрызки, и кожура, и обертки — великолепное месиво! Смотреть на слипшиеся бумажные салфетки у его смятой постели, на драные ковровые тапочки. Всего через секунду после оргазма, находясь в уединении в своей запертой комнате, я автоматически швыряю в мусорную корзину предательское доказательство своего бесчестия, в то время как Елинек — эксцентричный, высокомерный, независимый и неуязвимый Елинек — кажется, вообще не беспокоится о том, что весь мир знает или думает о его обильной эякуляции.
Я ошеломлен, у меня не укладывается в голове, я еще долго не могу поверить в то, что сказал мне на ходу знакомый студент философского факультета. Мой друг, по его словам, безусловно, «практикующий» гомосексуалист. Мой друг? Этого не может быть. Конечно, я встречал таких женоподобных. Каждое лето несколько этих известных еврейских «пашей» останавливается в нашем отеле. Мое внимание на них обратил Герберт Б. Я, словно завороженный, смотрел, как их бережно отправляют с солнышка в тень, а они не прерывают своего занятия, самозабвенно потягивая сладкий шоколадный напиток через пару соломинок; их брови и щеки промокают своими носовыми платками рабыни в лице бабушки, мамы и тети. В школе тоже было несколько несчастных, у которых руки росли не оттуда, как у девчонок. Им никогда не удавалось по-человечески кинуть мяч, даже если мы терпеливо пытались их этому научить. Но, чтобы «практикующий» гомосексуалист? Такого не было никогда, за все мои девятнадцать лет. За исключением, конечно, того раза, когда я прямо после обряда бар-мицве решил поехать на автобусе в Олбани на выставку марок. В туалете на автобусной станции ко мне подошел мужчина средних лет в деловом костюме и прошептал мне на ухо: «Эй, мальчик, хочешь я тебя надую?» «Нет, нет, спасибо», — ответил я и со всех ног (надеюсь, это его не оскорбило) кинулся из мужской комнаты, удрал с автобусной станции и ворвался в ближайший универмаг, где мог смешаться с толпой гетеросексуальных покупателей. С тех пор со мной не заговаривал ни один гомосексуалист, во всяком случае, насколько мне известно.
До Луиса.
О, Господи! Может быть, поэтому-то он и требует, чтобы я убрал свои руки, когда мы случайно касаемся рукавами друг друга? Может быть, то, что до него дотрагивается парень, имеет для него скрытый смысл? Но, если это так, почему же такому прямолинейному и чуждому условностям человеку, как Елинек, не взять да и не сказать об этом прямо? А не может ли быть так, что в то время, как я стыдливо скрываю от Луиса, что в сущности я обычный и приличный человек, типичный средний студент, он скрывает от меня то, что он гомосексуалист? Как бы в доказательство того, насколько я ординарен и респектабелен, я никогда не задаю ему вопросов. Вместо этого я с ужасом жду того дня, когда Елинек скажет или сделает что-то такое, что выявит всю правду о нем. А может быть, я все время знал эту правду? Конечно! Эти шарики бумажных салфеток, разбросанные по комнате… разве они не намеренно разглашают тайну? Это приглашение?… а не случится ли так, что одним из ближайших вечеров это головастое создание с орлиным носом, которое считает ниже своего достоинства пользоваться дезодорантом и уже начинает терять волосы, неуклюже выберется из-за стола, за которым читает своего Достоевского и кинется ко мне со своими объятиями? Может быть, он скажет, что любит меня и попытается поцеловать? И что же мне? Говорить в ответ точно то, что мне говорят наивные привлекательные девчонки? «Нет, нет, пожалуйста не надо! О, Луис, это на тебя так не похоже? Почему бы нам просто не поговорить и книгах?»
Но именно потому, что меня так страшит эта мысль — потому что я боюсь оказаться «деревенщиной», как он любит называть меня, когда мы расходимся во мнениях относительно идеи какого-нибудь шедевра, — я продолжаю забегать к нему, в его вонючую комнату, где, отгороженный от него мусором, часами веду с ним разговоры на безумные и скользкие темы, молясь про себя, чтобы он не сделал и шага в мою сторону.
Этого не успело произойти, потому что Луиса исключили из университета. Во-первых, за прогулы в течении всего семестра, а во-вторых, за то, что он даже не удосужился ответить на записки своего куратора с просьбой зайти и обсудить проблему.
— Какую еще проблему? — с негодованием и возмущением произносит Луис и задирает голову, словно «проблема» находится в воздухе, над нашими головами. Хотя все считают, что у Луиса экстраординарное мышление, ему отказывают в зачислении на второй семестр предпоследнего года обучения. Он тут же исчезает из Сиракуз (не приходится и говорить о том, что не попрощавшись), и почти немедленно его забирают в армию. Я узнаю об этом от агента ФБР, который пристально глядя мне в лицо, расспрашивает меня о нем, после того как Луис дезертирует из учебного лагеря и (как я себе представляю) прячется от корейской войны где-нибудь в трущобах, прихватив свой «Kierkegaard» и бумажные салфетки.
— Что ты можешь сказать о факте его гомосексуализма, Дэйв? — спрашивает агент Маккормик.
— Я ничего об этом не знаю, — покраснев, отвечаю я.
— Но мне сказали, что ты был его близким другом.
— Кто сказал? Я не знаю, кого вы имеете в виду.
— Ребята из университетского городка.
— Это просто злобные слухи. Это неправда.
— Что ты был его другом?
— Нет, сэр, — отвечаю я, и меня снова бросает в жар, — то, что он гомосексуалист. О нем так говорят, потому что у него трудный характер. Он просто выделялся здесь среди других.
— Но ты ведь с ним ладил, правда?
— Да, а почему, собственно, нет?
— Никто и не говорит, что тебе не следовало этого делать. Послушай, мне говорили, что у тебя репутация Казановы.
— Да?
— Да. Что ты любишь волочиться за девчонками. Это так?
— Допустим, — отвожу я взгляд, чувствуя в этом вопросе подтекст.
— А вот о Луисе этого нельзя сказать, — двусмысленно заявляет агент.
— Что вы имеете в виду?
— Дэйв, скажи мне откровенно. Где по твоему мнению он может прятаться?
— Не знаю.
— Но ты, я уверен, сообщишь мне, если будешь знать.
— Конечно, сэр.
— Вот и прекрасно. Вот моя визитка на всякий случай.
— Да, сэр. Спасибо, сэр.
После его ухода меня охватывает стыд за то, как я себя вел: за мой страх перед тюрьмой; за мои манеры, словно я лорд Фаунтлерой; за мои коллаборационистские инстинкты — за все.
За то, что я приударяю за девчонками.
Обычно я выбираю их в читалке нашей библиотеки. Мои желания стимулируются и фокусируются здесь не меньше, чем в бурлеске. То, что напрасно подавляется в этих аккуратно одетых, благовоспитанных девушках из американского среднего класса, становится немедленно очевидным (чаще, немедленно домысливается) в этой всеобъемлющей атмосфере академической благопристойности. Я не спускаю глаз с девчонки, которая крутит концы волос, делая вид, что поглощена чтением своего учебника истории, в то время как я изображаю, что увлечен чтением своего. Другая, лениво перелистывая журнал «Лук», начинает качать под столом ногой, и мое страстное желание не знает границ. Третья склоняется над своим блокнотом, и из моей груди вырывается приглушенный стон, будто меня только что пронзили. Я вижу, как вздымается ее грудь под блузой, когда она скрещивает руки. Как бы я хотел быть этими руками! Да, мало мне надо, чтобы начать преследовать прекрасную незнакомку. Достаточно, скажем, того факта, что в то время, как она выписывает что-то правой рукой из энциклопедии, указательный палец ее левой руки непрерывно описывает круги вокруг рта. Я отказываюсь — из-за неспособности, которую я возвожу в принцип, — сопротивляться тому, что нахожу неотразимым, невзирая на то, что объект моего увлечения может кому-то казаться не заслуживающим внимания, странным, ребячливым или капризным. Конечно, это приводит к тому, что я домогаюсь общества тех девчонок, которые в остальном кажутся мне обычными или скучными, или глупыми, но я убежден, что, если они и скучны, это не главное. И все это потому, что моя страсть — это настоящая страсть, и с ней нельзя не считаться.