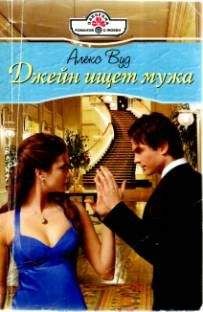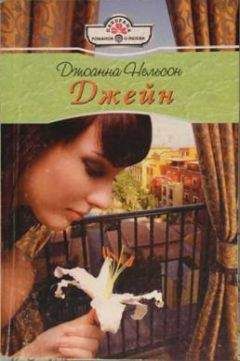Джейн Гардем - Рассказы
Но Клаус не срезался. По счастливой случайности одна из экзаменационных тем по выбору звучала как «Радости застолья», и, насколько я понимаю, его сочинение вылилось в перечисление названий необычных блюд, рецептов и краткий этнологический трактат. Экзаменатор, которого Клаус по праву должен считать своим добрым ангелом, должно быть, несколько оторопел. Клаусовы дяди-тети прислали мне вместе с оплатой за труды гигантское растение в горшке, а от ученика я получила очень официальное благодарственное письмо. Он вырос, стал в своей Швейцарии адвокатом, и мы, как водится, долгие годы поддерживали отношения на уровне рождественских открыток, а потом и открытки сошли на нет, и о Клаусе благополучно забыли.
И вот прошлым летом, отдыхая в Женеве, мы узнали из газет, что его назначили кантональным судьей. Игнорировать подобную новость было негоже, мы послали Клаусу поздравление, и уже на следующий день он звонил нам в отель. А потом мы получили приглашение на ужин.
Боже, какой излучающий благоволение великан вышел нам навстречу! В нем чувствовалась стать, достойная Мафусаила. Как он раздался в высоту и ширину, бледный, исполненный важности, неторопливый. Взвешивающий каждое слово. Голос его звучал пронзительно, словно писк летучей мыши, но это очевидно профессиональная особенность всех кантональных судей, ведь им приходится выступать в пустых залах суда[1] — такова единственная швейцарская несообразность, про которую мне доводилось слышать, но, надо полагать, несообразность весьма серьезная.
Он познакомил нас со своей супругой, и мы отправились ужинать в самый-самый из всех женевских раззолоченных ресторанов, где меню было под стать швейцарцам: коротенькое, богатое (калориями) и предсказуемое до зевоты. Вино по вкусу очень напоминало наше белое сухое из Шонбургера, но упомянутое мною название сорта «Сент-Николас в Аше» вызвало у Клауса неопределенную полуулыбку, призванную замаскировать непонимание. Хотя, с другой стороны, чего было ждать, если прошло тридцать лет!
Конечно же, мы рассыпались в благодарностях, и круглолицая хохотушка-жена Клауса сказала, как они рады, что смогли доставить нам удовольствие. И прибавила, как мы, должно быть, рады, что смогли вырваться в Швейцарию: сбежать от английского климата и английской еды.
— Сама-то я у вас ни разу не была, — улыбнулась она, — но мне рассказывали. Из уст, как говорится, в уста.
Я заверила ее, что климат в наших краях отличается восхитительным разнообразием и совсем не похож на то, что ей наговорили. И еще я ждала, что Клаус скажет хоть полслова о еде. Смотрела на него и ждала.
Конечно же, минуло столько лет, но хоть что-то, хоть какой-то пустяк должен был шевельнуться в памяти, ведь должен же? Морские языки от Кэвеллов, божественный йоркширский пудинг, тарталетки, блинчик с кленовым сиропом, Сэлли Ланн, отменные сыры, нежащиеся в сиропе негритяночки? Хоть тень воспоминания должна была остаться в подкорке этого унылого рассудительного гурмана, где-то же прятался голодный мальчишка, получивший в дар один упоительный, сладостный английский день!
— Я потом там больше ни разу не был, — сказал Клаус. — Но об Англии кое-что помню. В Кенте росли такие прелестные маленькие сливы. Где я мог их видеть, Лиззи? В вашем саду? Да, такие красивые, темно-синие, и на вкус, кстати, просто прелесть. Но, по-моему, это не английский сорт. Откуда они? С Ближнего Востока? Да, из Дамаска.
Мертвые дети
Ежевичные кусты были, как всегда, в октябре: непролазные, с гирляндами серебристых, черных, фиолетовых и красных ягод. Ягод на ветвях оставалось полным-полно, но многие, подернувшись плесенью, висели готовые сорваться вниз, или уже усыпали дерн крохотными шиншилловыми комочками. С той поры, как она гуляла на этой пустоши с детьми, тогда еще совсем маленькими, чего только здесь не приключалось: и пожар бушевал, и трава на корню жухла от какой-то хвори, и даже ураган налетал, так что деревья валились направо-налево, словно сметенные с доски шахматные фигуры, и лежали, поверженные и униженные, бесстыже задрав к небу вывороченные пласты земли, облепившей корни.
Но ежевике все было нипочем, и она покрывалась и покрывалась новыми побегами на радость новым поколениям сборщиков, блуждающих в зарослях с полиэтиленовыми пакетами и лиловыми от сока ладонями. Детские одежки так изменились, какие-то комбинезоны, джинсы, неуклюжая спортивная обувь, не разберешь, мальчик перед тобой или девочка. Ее дети были в платьицах и шортиках, в сандаликах и белых носочках. Давно. Тридцать пять лет назад.
С годами Алисон Эйвори подсохла, чуть одряхлела, походка замедлилась, но чувствовала себя прежней, в чем-то даже легче и счастливее, потому что жить стала свободнее. Незачем было собирать ежевику, незачем торопиться домой к мужу, потому что мужа уже не было, и в отсутствии этих отвлекающих факторов она в свои восемьдесят два могла по-настоящему быть самой собой.
Ежевика, слыханное ли дело! Дома и без ежевики хватает беспорядка. В подарок ее не сваришь: друзья-знакомые в таком возрасте, что варенье предпочитают без зернышек. Тазы для варки давно были розданы по детям, внукам и благотворительным организациям. В пору самой получать сваренное кем-то варенье — или, как теперь говорят, конфитюр. Миссис Эйвори всегда с содроганием ждала, что придет день, когда и ей начнут дарить маленькие разноцветные баночки.
Но пустошь она любила, любила ежевичник с его пружинистыми изгибами ветвей и пыльными лазами у корней. Недавно в самой его гуще, на крохотном пятачке травы, между кустами, установили скамейку в память о собаке, которая «столько лет тут рыскала». Эти слова, кличка пса и даты его жизни были выбиты на табличке, прибитой к спинке. Поставили скамейку в марте, и, кажется, до сих пор никто о ее существовании так и не проведал.
Когда миссис Эйвори привозила сюда детей, они расстилали на этой заповедной полянке скатерть для пикника и усаживались вокруг. Теперь она медленно опустилась на дощатое сиденье и перевела дух.
Здесь она была полностью отрезана от мира.
Кого только ни заносило на пустошь с той давней поры пикников: бродяг, онанистов, развратников, грабителей, даже убийца был! О месте пошла дурная слава. Узнай кто, что она сидит здесь в одиночестве, какой бы поднялся переполох! «Престарелая Титания под сенью леса», — улыбнулась она.
Сегодня было по-особому тихо. Время обеда прошло, чай пить рано, школьники все еще за партами, а малыши мирно спят. Никто в целом свете не знает, где она. Прикрыв глаза, миссис Эйвори вслушивалась в тишину.
«После этого безобразного обеда, — думала она, — после всей этой боли...»
Обед пришлось посвятить делам будущего. Сама-то миссис Эйвори твердо верила, что размышлять о будущем вредно. Равно как и о прошлом, если уж на то пошло. Пусть вокруг все становилось более и более зыбким, тут она была непоколебима. Эта дремотная осенняя пустошь, эти ежевичины, такие тучные, такие плодоносные, бесконечно воскресающие к жизни, бесконечно наливающиеся соком, бесконечно падающие на землю, этот бесконечный звон детских голосов, когда они, невидимые, несутся по гаревой дорожке к ветряной мельнице...
— Отдай!
— Сама отдай!
...значит, уроки уже закончились.
— Идите сюда немедленно! Только попробуйте мне изгваздаться!
— Смотри, что я нашла!!!!
— Я кому сказала?! Нам же еще...
— Миллион миллионов ежевик!!! Миллион миллионов!!!
— Говорю же вам, нам пора. Господи, куда же я дела эти ключи? Где собака? Где ее черти носят?
Она слышала, не слушая, пропуская голоса сквозь себя, словно воду. «Пусть текут вокруг бедной моей головы. Глупой моей, дурной моей головушки».
Обед затеяли из-за завещания. Ее дети, Пит и Энни, приехали издалека и с тщательно спланированной одновременностью возникли на пороге точно в назначенное время, назначенное в ходе длительных обсуждений, поскольку это была не первая, и даже не вторая попытка собраться на семейный совет. Вопросы наследования предстояло обсуждать в ресторане роскошного отеля «а-ля шато», выросшего на пустоши и слывшего местом для избранных.
Туда они и пошли. Мимо неглубокого пруда, через великолепные новые ворота прямо к вылизанному до блеска парадному входу, где обнаружили расставленных у каждого столба официантов с надутыми физиономиями, лоснящиеся шторы из стеганого атласа с фестонами и подборами, а также весьма немногочисленных посетителей, сидевших на леденящем душу расстоянии друг от друга. Половина из них оказалась японцами, застывшими, оцепенелыми от всеобщего молчания и, казалось, горько сожалеющими о том, что их занесло сюда из центра Лондона.
Когда Пит и Энни были маленькими, на этом месте стоял дом престарелых. Как-то раз Энни пробралась на территорию со стороны парка, начинавшегося сразу за усадьбой: вскарабкалась по насыпи, потом залезла на террасу, огороженную цепями (а теперь ласкавшую взор белой садовой мебелью и искусственными растениями), и прижалась носом к садовым окнам, чем до смерти напугала тех обитателей, которые еще были в состоянии реагировать на сигналы из внешнего мира.