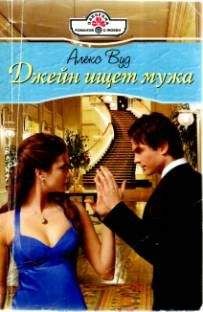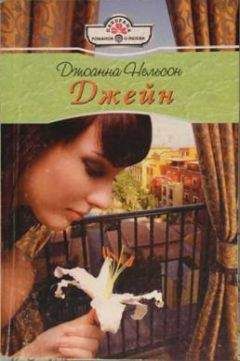Джейн Гардем - Рассказы
Мальчик сам вышел на порог и застыл, придерживая руками псевдосредневековый засов. На стене рядом с дверью висел псевдосредневековый же фонарь, а под ним — деревянная табличка с вырезанным на ней названием: «Сливовый коттедж». Мальчик посторонился, пропуская меня внутрь, и через коридор, где мебели почти не было, а вот резиновых сапог — в избытке, я увидела сад и розовую клумбу, над которой согнулся кто-то крепкий, но неразличимый. По полу на аккуратных фанерных веерообразных сушилках из магазина «Сделай сам» были разложены срезанные осенние розы, снабженные металлическими бирками. Высокий подросток, вцепившийся в засов, стоял чуть не по колено в розах, такой прыщавый, такой ершистый, с угрюмо потупленными глазами, прикрытыми кожистыми веками, с нескладными руками и столь отчаянно тощий, что казался почти вогнутым. В его взгляде мне почудилось отвращение, но потом я подумала, что виной всему постигшее его несчастье.
Из-за угла дома появилась одна из теток, скорее всего, воен-но-морская. Она толкала перед собой тяжеленную тачку. Мы отвернулись, пока она откатила ее вниз по дорожке. Разговаривая со мной, она достала из кармана недоеденный рогалик и принялась его жевать. Потом, когда мы с Клаусом отправились в заднюю часть дома, где находился кабинет, из кухни, мимо которой мы проходили, выглянула вторая тетка. Там внутри повернуться было негде от пластмассовых емкостей с черенками. На столе стояла большая консервная банка с супом, две банки поменьше с фасолью в томате и пакет с нарезанным белым хлебом. Когда мальчик уселся за дядин стол перед окном, давешний неразличимый человек разогнулся и двинулся прочь от клумбы. Проходя мимо окна, он, не глядя в нашу сторону, заученным движением вскинул руку к голове. Позднее я увидела, как он стоит у компостной кучи и чистит банан. Снятые шкурки он методично отправлял в компост, а потом задумчиво посмотрел на банан и швырнул его туда же.
Клаус и впрямь оказался во всех отношениях неглупым. У него были феноменальные способности к языкам, так что на английском он говорил не просто уверенно, а практически как носитель: легко, естественно и без акцента. По его словам, французским и немецким он владел на том же уровне, а испанский «набирал». Точные науки, как он мне объяснил, для него «никакой сложности не составляли», и сомневаться в этом у меня причин не было, поскольку вскоре я поняла, какой у него цепкий, рациональный склад ума.
Но мне предстояло обучить его писать сочинения на добровольно-принудительную тему, а он пока что не имел представления о том, как к этому подступиться. Мы разбирали один образец за другим, но каждое мое предложение Клаус неизменно встречал скептической улыбкой.
— Это невозможно. Смотрите, здесь написано: «Путешествие». Это же неконкретно. Так ничего написать нельзя.
— А ты прямо так и напиши, просто вырази свою точку зрения.
— Но это будет невежливо. И не слишком дальновидно, потому что настроит комиссию против меня.
— С чего ты взял, Клаус, совсем не обязательно! Скорее, наоборот. Ты, по-моему, понимаешь все слишком буквально. И чересчур всерьез. От тебя требуется просто сесть и написать все, что ты знаешь о путешествиях.
— Но я путешествовал всего один раз, самолетом из Женевы до аэропорта Гатуик, а потом сюда на машине.
— Не беда, многие люди и того не делали. Для кого-то переход через поле — уже путешествие. Представь, что ты вышел и отправился куда-то из этой комнаты, в сад, потом дальше, к реке. Чем не путешествие? Пойти посмотреть на коров — это путешествие. Посидеть где-нибудь, поразмыслить — тоже путешествие. Подумай, как это можно повернуть.
— Неужели кто-то будет это читать?
— Это уж от тебя зависит! Напишешь интересно — будут.
— Но мне-то неинтересно.
— Н-да... Ну что ж...
Еще один урок на той же неделе:
— Ладно, попробуем зайти с другого конца. Скажи, что тебя интересует.
— Математика. Перевод. И...
Равнодушно скользившие по мне глаза теперь уставились в окно, на догорающее солнце. Дядя нынче вечером на сцене не появлялся, но его плетеное кресло с пухлой неяркой подушкой просматривалось под тремя молодыми деревцами, росшими у стены из местного красного кирпича, порядком выветрившегося. Рядом на траве валялась забытая шляпа. В лучах заката розы на клумбе полыхали каким-то отчаянным цветом. Я вдруг вспомнила, что Клаус долгие годы воспитывался без отца, а недавно потерял мать.
— Надо все-таки постараться и что-то сделать, — сказала я.
Убедившись, что у него есть все составленные мною памятки с описанием различных подходов к той или иной теме, а также образцы сочинений, я засобиралась домой. Он, как всегда, вежливо проводил меня до дверей. В кухне вторая, «сухопутная» тетка, более женоподобная, чем сестра, стояла перед старой газовой плитой и сосредоточенно обугливала на сковородке консервированную фасоль в томате.
— Ну что ты будешь делать! — сокрушенно воскликнула она, когда мы проходили мимо. — Готовить-то у нас особенно некому, в саду дел невпроворот.
Я перехватила взгляд Клауса и впервые ощутила, до какой степени инородным телом он казался в этом доме. Это были чужие территориальные воды, и в них он едва держался на плаву. В последующие несколько недель, пока Клаус тужился, пытаясь излить на бумаге хоть малую толику своей души, постоянный запах пригоревшей стряпни и кусочничающие тети-дяди, возникающие в саду то здесь, то там, стали порядком действовать мне на нервы.
Однажды желудок Клауса подал голос. Я вытащила из сумки плитку шоколада, поломала ее на куски и положила на стол. Он к ней не притронулся.
— Угощайся!
— Спасибо, но я ем только швейцарский шоколад.
— Попробуй, это же очень вкусно!
— Нет. Я просто хочу поесть. Хоть раз сесть и поесть нормально.
— Ладно, в следующий раз я принесу тебе швейцарский шоколад. А сейчас опиши мне, что такое голод. Опиши, как ты это чувствуешь.
Он воззрился на меня с изумлением.
— Что же тут описывать? Ну, это очень неприятно.
— Подумай, на что похоже это ощущение. Сравни его с чем-нибудь.
— То есть я должен употребить метафору, правильно? Как вы мне объясняли.
— Совершенно верно. Ну, давай, употребляй!
— Голод — это как... голод. Он похож сам на себя. Мне кажется, его ни с чем нельзя сравнить.
— Господи ты Боже мой!!! Ладно.
Да, я знаю, что это жестоко, что это запрещенный прием, но у меня не было выхода.
— Тогда опиши что-нибудь другое. Что-нибудь страшное. Смерть, например. Расскажи мне про нее.
— Каким образом? Я пока еще не умер.
— Ты нет. Но у тебя умерла мама. Опиши мне ее смерть. Расскажи мне, как это было. Я слушаю.
— Я при этом не присутствовал.
— Расскажи, как ты об этом узнал. Где ты находился в этот момент, дома? В больнице?
— Это была не больница, а клиника.
— Опиши эту клинику. Расскажи, какая она. Вот тебе бумага, ручка, если хочешь, я могу выйти, чтоб тебя не смущать.
— Вы мне не мешаете.
Я все-таки отправилась в сад и подошла к трем молодым терносливам. Стволы деревьев покрывала серо-зеленая, отливающая серебром кора, и они казались пушистыми и теплыми на ощупь. Среди трепета бледной листвы и серебряных ветвей проглядывали пучки мелких, крепеньких густо-синих ягод. В траве у корней громоздилась кучка спиленных сучьев, черных и корявых. Очевидно дядя складывал сюда то, что потом пойдет на растопку. Там попадались тяжелые, плотные ветки с серебристо-свинцовой древесиной, такой же старой, как стена, рядом с которой они некогда росли, а может еще старше. Дерево таило в себе летние запахи вековой давности, теперь давно забытые. Как же донести все это до мальчишки, ну пусть не все, но хоть малую толику!
Его большие башмаки зашаркали по траве, и он появился, сжимая в пальцах листок бумаги, на котором было написано сочинение про смерть. Вот что я прочла:
В 13:40 моя мать находилась в пластиковой кислородной палатке, в руке она держала специальное устройство. В больнице все было организовано очень хорошо и эффективно, поэтому, когда сиделка сказала мне, что общаться с матерью теперь невозможно, потому что сквозь пластмассовые стенки она все равно не услышит, что я говорю, я согласился с ее словами. Сиделка предложила мне пойти выпить кофе в помещении для персонала в дальнем конце отделения. Я так и сделал, а в 13:50 услышал, как по коридору бегают люди, и увидел врача, направлявшегося в палату. В 13:59 вошла сиделка, чтобы сообщить мне о смерти матери.
— Эх, Клаус, ты... Послушай, Клаус, пожалуйста, посмотри внутрь себя. Вернись туда. Вспомни, — произнесла я с нажимом.
Он сел в скрипучее кресло и уставился на сливовые деревья. Потом написал:
Меня почти сразу же (в 14:20) спросили, хочу ли я забрать с собой обручальное кольцо матери, потому что иначе оно либо потеряется, либо его заберут сотрудники похоронного бюро. В 14:30 мне вынесли кольцо и другие ее вещи. В 14:33 мне предложили попрощаться с ней, но я отказался смотреть на мертвое тело и сказал, что предпочел бы запомнить ее живой. Мне еще раз предложили кофе, потом поинтересовались, не нужно ли позвонить кому-нибудь, чтобы меня отвезли домой. На оба предложения я ответил отказом и приблизительно в 14.40 вышел из здания больницы.